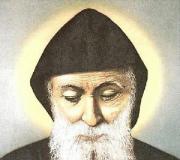Прорыв обороны. Прорыв обороны противника и развитие наступления в глубине
После прорыва линии Маннергейма финны лишились одного из ключевых преимуществ - заранее подготовленной обороны. Между Выборгом и наступающими частями Красной Армии была теперь только Промежуточная линия обороны с полевыми укреплениями, да и те были построены не везде. На Промежуточной линии обороны не хватало блиндажей для размещения всего личного состава финских полков, оборонявших ее. Теперь им, как и бойцам Красной Армии, приходилось жить и вести бой в снегу, на морозе, на пронизывающем ветру. Более того, почти все противотанковые пушки были уничтожены или брошены при отходе с линии Маннергейма.
Прорыв обороны создал атмосферу эйфории в советских штабах. Командование посчитало, что сопротивление финской армии сломлено окончательно и победа близка. Настало время направить в прорыв легкотанковые бригады на танках БТ. Уже 14 февраля к месту прорыва двинулись 1-я и 13-я легкотанковые бригады. Однако их путь на фронт был непрост - после прорыва весь фронт пришел в движение, на дорогах в тылу скопилась огромная пробка и танкисты простояли в ней около 10–12 часов. По словам начальника штаба 13-й легкотанковой бригады, на высоте 65,5 пробка стояла в 3–5 рядов.
В первые же дни после прорыва командование 7-й Армии создало три подвижных танковых группы, в задачу которых входил разгром тылов финнов и быстрое продвижение к Выборгу.
Группе комбрига Борзилова, в которую вошли 20-я танковая бригада, часть 1-й легкотанковой бригады и два стрелковых батальона, была поставлена амбициозная задача к исходу 18 февраля 1940 года овладеть городом Выборг и окрестностями.
Группа комбрига Вершинина (6-й танковый батальон 13-й легкотанковой бригады и стрелково-пулеметный батальон 15-й стрелково-пулеметной бригады) имела своей задачей захватить станцию Лейпясуо.
Группа полковника Баранова (оставшиеся батальоны 13-й легкотанковой бригады и 15-я стрелково-пулеметная бригада (без одного батальона), а также боевой отряд 1-й легкотанковой бригады имела задачей захватить станцию Кямяря.
Помимо этого, в бой пошел также отряд 1-й легкотанковой бригады в составе: оперативная группа 5 танков, артиллерийская группа - 6 танков и 3 БА-10, одна рота 10-го отб (14 БТ-7), одна рота Т-28 (11 танков), бронерота - 11 БА-10, 5 танков БХМ-3 - 6-я отдельная рота боевого обеспечения, одна рота 167-го мотострелкового батальона, 37-я саперная рота из 123-й стрелковой дивизии.
Командование отрядом возложено на командира 1 - й легкотанковой бригады комбрига Иванова. Комиссаром отряда стал полковой комиссар Эйтингон.
Уже вечером 17 февраля штаб 7-й Армии в боевом приказе № 51 приказывал частям Армии перейти к преследованию с целью помешать финнам сосредоточиться на новой оборонительной линии южнее Выборга.
Все подвижные танковые группы не смогли полностью выполнить поставленных перед ними боевых задач. Суждение о развале финской обороны оказалось неверным, а местность для действий танков - крайне сложной. Финны успели закрепиться на Промежуточной линии и встретили танки с десантом организованным огнем. Танкистам и пехоте подчас не хватало опыта для налаживания взаимодействия, и танки зачастую по-прежнему оказывались на поле боя одни.
Однако в начале наступления подвижные танковые группы добились успеха. 16 февраля к 13.00–14.00 группа Баранова взяла станцию Кямяря, но севернее станции столкнулась с заранее подготовленной финской обороной на высотах у озерца Мусталампи. На станции Кямяря группа Баранова захватила 5 танков «Рено» и 3 «Виккерса». По советским данным, в боях финны потеряли до 800 убитых, стрелковым частям танкисты передали до 120 пленных.
Воентехник 2-го ранга А. А. Саманцер, 91-й танковый батальон:
Утром позавтракал, после завтрака прогрел машину и ушел на станцию осматривать танки противника. Когда я подошел к ним, мне стало смешно. Направляющие колеса у них были деревянные. Противник оставил их со всем вооружением. Очевидно, скорость у них была очень мала и они не успевали убегать.
Тем не менее по всем советским частям был разослан рисунок с силуэтами танков «Рено» и «Виккерс».
Группа Вершинина захватила станцию Лейпясуо, но завязла северо-восточнее и восточнее станции. Остановить танки группы Вершинина пыталась 27-я отдельная саперная рота.
Рейно Викман, 20-летний финский сапер:
- Смотри! Они идут! - кричит мне Паюнен. Я бросаю взгляд на болото: повсюду видны серые силуэты танков. Идут прямо на нас.
- Меняем позицию! - кричит Паюнен. - Из твоей ячейки лучше видно!
Он ползет к моей ячейке. Я не успеваю ему объяснить, что моя ячейка почти сровнена с землей артобстрелом и в ней не укрыться. Схватил в охапку свое снаряжение и пополз к ячейке Паюнена. Двигаться сложно, так как я контужен, руки и ноги не слушаются.
Только я добрался до ячейки, как огромный взрыв меня кидает вперед, я падаю в ячейку на четвереньки. Оглядевшись вокруг, я понимаю, что туда, где я был две секунды назад, попал снаряд, и Паюнена больше нет.
Я остался один, и положение безнадежное. Танки ревут со всех сторон, часть уже прошла мимо меня. Под ними взрываются несколько наших мин, поставленных ночью накануне.
Я сижу и жду пули или осколка. Ни малейшей надежды нет. Бесчувственными пальцами пытаюсь вытащить из карманов личные документы, письма и прочее - их нужно уничтожить, противнику они не должны достаться - так нас учили.
В кармане также фотографии - я их быстро просматриваю, как будто прощаюсь со всеми. Все больше и больше я готов встретить смерть и свыкаюсь с мыслью о ней.
Я достаю винтовку и делаю выстрел, чтобы проверить, работает ли она после разрыва снаряда. Она в порядке.
В тот же момент совсем близко мимо меня проходит танк, стреляя на ходу.
Затем происходит чудо: со стороны ячеек отделения Исо-Метсяля летит бутылка и попадает танку в борт! Танк охвачен пламенем. Значит, еще кто-то остался в живых! Хоть какая-то маленькая радость.
Еще один танк проходит так близко от меня, что я тоже решаю его подбить.
Беру противотанковый заряд. Однако вокруг сильный огонь, а мое положение в ячейке неудобное для броска - я вообще не могу приподняться.
Вот он рядом! Дергаю за шнур и бросаю заряд - но руки не слушаются, заряд пролетает всего несколько метров. Я успеваю только закрыть глаза и три килограмма тротила взрываются. От взрывной волны перехватывает дыхание, она бьет по лицу.
Теперь противник меня заметил. Танк, который подальше, начинает стрелять по мне из пушки, но не попадает в мою ячейку - меня только засыпает землей и по мне бьет ударная волна.
Затем танк едет меня давить. Я не могу удержаться от крика, когда его гусеница наезжает на меня. Меня охватывает дикий страх - неужели мой конец будет столь ужасным? Танк останавливается, я лежу под ним, как крыса в норе. Танк скребет гусеницей по земле, страшная боль и отчаяние пронизывают все мое существо - он меня раздавит, размажет, вывернет наизнанку.
Затем гусеница останавливается. Я так перекручен под гусеницей, что просто необходимо поменять положение тела. Я жив, но ужасная боль, кажется, лишает меня рассудка. Пытаюсь освободить место, пошевелив головой. Мерзлые куски земли режут лицо. Глаза заливает кровью. В результате я хотя бы вернул голову в нормальное положение относительно тела.
Затем я замечаю маленький просвет между гусеницей и землей. Ткнулся туда головой - может, удастся выбраться?
Напрягаю все силы. Наконец мне удается высунуть голову из-под гусеницы. После долгих усилий я наконец полностью вылезаю из-под танка. Отчаяние придало мне сил.
Танк по-прежнему стоит на месте. Я лежу рядом с ним на снегу, с обнаженной головой и руками. Каска, рукавицы, все мое добро осталось под танком.
Мотор танка тихо урчит. Танкисты настолько уверены в том, что я мертв, что даже не заглянули под танк. Я, совсем обессилевший, лежу на морозе. Лицо и руки, похоже, обморожены. Холодный зимний ветер бросает мне в лицо снежинки. Я понимаю, что жизнь моя по-прежнему висит на волоске.
Очевидно, меня либо не заметили в смеси из снега и земли, перемолотой гусеницами, либо посчитали мертвым и оставили в покое. Я мог бы зарыться в снег, дождаться наступления ночи и попробовать в темноте пробраться к своим. Однако сейчас только утро, и я наверняка замерзну насмерть до вечера.
И только тут в голове проскакивает мысль - а что, если меня возьмут в плен?!Нет, ни за что! Лучше умереть. Хотя о смерти думать нелегко, я еще молодой, только что 20 лет исполнилось… После смерти ничего нет? Раньше я об этом не думал. Было бы больше уверенности в этом, не было бы так страшно умирать…
Затем я собираю всю волю в кулак. Я все для себя решил и готов отойти в мир иной. Как-то мне удается найти винтовку, которая не попала под танк и уцелела. Приставляю ствол к голове, замерзшими пальцами дотягиваюсь до спускового крючка, закрываю глаза и нажимаю - быстро и резко. С губ непроизвольно срывается крик.
Тут замечаю, что я все еще жив. Осечка. Проверяю винтовку и вижу, что боек капсюль наколол - но выстрела не произошло. Ищу какое-то другое оружие - у меня же был нож, но не могу его найти, ищу гранаты, но их тоже нет.
И только в этот момент я оглядываюсь вокруг. Рядом со мной стоит группа красноармейцев. Они пристально наблюдают за моими действиями. И теперь мне нечего больше делать.
Поднимаю замерзшие, обмороженные руки в знак сдачи в плен, но жду от противника выстрела милосердия, который закончил бы все мои мучения. Ко мне подходят два красноармейца, поднимают меня на ноги, срывают остатки маскхалата. Они быстро обыскивают карманы и ведут в тыл. Когда мы подходим к какому-то танку, они меня сажают на теплое моторное отделение. Кто-то осторожно массирует мне обмороженое лицо и руки.
Танк едет в тыл. Меня ждет долгая дорога в плен.


Перенесемся в район станции Кямяря, где была сосредоточена основная советская ударная группировка. 18 февраля 1940 года на основании боевого приказа № 2 в наступление перешел отряд 1-й легкотанковой бригады с задачей выйти в район Вяярякоски. В 10.00 совместно с частями 84-й стрелковой дивизии отряд начал атаку в направлении высоты 45,0, Пиен-Перо, Вяярякоски. Ведя атаку в данном направлении, отряд уничтожил большое количество блиндажей, 3 ДЗОТ, одну противотанковую пушку, до взвода пехоты и к исходу дня овладел южными скатами высоты 45,0.
Стрелки 84-й стрелковой дивизии за танками не двигались, а достигнув надолбов - залегли. Несмотря на многократные требования комбрига Иванова командиру 41 - го стрелкового полка, пехота не поднималась. Танки несколько раз возвращались к пехоте обратно, но и это не помогло.
В результате отряд 1-й легкотанковой бригады отступил южнее, чтобы не быть уничтоженным финской пехотой ночью. Финский 3-й батальон 61-го пехотного полка заявил о том, что в этот день трижды отбил советские танковые атаки.
На помощь к отряду уже выдвигалась со станции Кямяря группа Баранова.
20-я танковая бригада продвинулась от Кямяря на северо-запад и втянулась в тяжелые бои против опытного 13-го пехотного полка в районе хутора Менна.
Решающим днем в сражении на Промежуточной линии в районе железной дороги стал день 19 февраля 1940 года.
В этот день 20-я танковая бригада нанесла мощный удар по позициям 24-го отдельного пехотного батальона, приданного 13-му пехотному полку.
Солдаты батальона, не имеющие боевого опыта, ударились в панику и оставили позиции. В 15.00 финская оборона была прорвана, и танки Борзилова пошли вперед вдоль железной дороги. Командир 13-го пехотного полка подполковник Ваала бросил в бой резервы. В районе железнодорожного переезда Селянмяки советские танки встретил 3-й батальон 13-го пехотного полка егерь-капитана Вяйно Лааксо. В сумерках этот финский батальон пошел в отчаянную контратаку на советские Т-28, имея против них только бутылки с зажигательной смесью и противотанковые гранаты:
…Контратаки 3-го батальона 13-го пехотного полка 19 и 20 февраля с целью остановить советские танки были безнадежным делом…
…В 18.45 капитан Лааксо получил приказ контратакой вернуть утраченные позиции. Батальону удалось отогнать пехоту противника, но танки противника встали в оборонительный круг на грядах восточнее хутора Менна и продвижение рот было остановлено их огнем. Первую контратаку прервали в 23.00…
Капитан Вяйно Лааксо начал готовиться к следующей контратаке, которая началась 20 февраля в 00.20. Ему удалось получить огневую поддержку 2-го дивизиона 3-го артиллерийского полка. Однако артподготовка оказалась слабой:
«в 00.00 началась наша артподготовка - мы слышали три-четыре разрыва и падение неразорвавшихся снарядов. Многие из нас вообще не заметили нашей артподготовки» - писал в объяснительной о результатах боя Лааксо. Однако контратака началась ровно по расписанию и сразу же захлебнулась под советским огнем. В 04.30 контратаку пришлось прекратить.
3-й батальон 13-го полка потерял в контратаках 74 человека убитыми и ранеными, включая всех «бомбистов» - охотников за танками с бутылками и противотанковыми гранатами.
В тот же день драматические события развернулись к востоку от железной дороги в районе озера Мусталампи. Здесь в атаку снова пошли танкисты 1-й легкотанковой бригады. Теперь отряд 1-й легкотанковой бригады пошел в бой не в полном составе, а небольшой боевой группой под командованием старшего лейтенанта Колесса (Колессо) в составе: 3 Т-28, 7 БТ, 3 БХМ-3 в 12.30 19.2.1940 года выступил в атаку совместно с частями 41-го стрелкового полка. Задачей отряда лейтенанта Колесса было уничтожить огневые точки противника на высоте 45,0 и 45,0 северная, овладеть дорогой Пиен-Перо, Хепонотка и обеспечить продвижение пехоты в направление Вяярякоски. Пехота 41-го стрелкового полка за танками не пошла и снова залегла за надолбами.

Танковая рота, подойдя к высоте 45,0, атаковала высоту, в результате чего уничтожено 3 ДЗОТ, 1 противотанковое орудие и шесть землянок с финнами. Оставшиеся в живых финны, которые преследовались и уничтожались, в панике отступили в направлении высоты 45,0 северной.
Подойдя к высоте 45,0 северной, танки атаковали ее охватом с восточных и западных скатов. В результате боя танкисты уничтожили 2 противотанковых пушки, пушку 76 мм и разрушили артиллерийский КП, 2 ДЗОТ, 5 землянок в финнами. После этого БТ старшего лейтенанта Колесса устремились в тыл к финнам и ворвались на позиции батареи 1-го дивизиона 5-го полка полевой артиллерии, захватив все орудия (русские трехдюймовки). Пушки танкисты подорвали (по другим данным, их подорвали танкисты группы Баранова днем позже). Уже в 15.30 пять БТ были замечены финнами на шоссе в районе Пиен-Перо. Однако пехота за танками не пошла. Остатки 3-го батальона 61-го пехотного полка по-прежнему отбивали атаки 84-й стрелковой дивизии на оборонительной линии у озерца Мусталампи.
В тот же день взвод танков Т-28 из 20-й танковой бригады, приданный отряду 1-й легкотанковой бригады, вышел из боя и не участвовал в атаке, мотивировав это отсутствием боеприпасов и горючего.
Финский комбат-3 Гренроос оказался блокирован танками в штабной землянке, а среди солдат сразу появились слухи о его гибели. Однако на этом успех советских танкистов закончился. Финны подорвали мост на шоссе у Пиен-Перо под носом у советской танковой разведки, и дальше танки продвинуться не могли. Вечером 19 февраля финская пехота перерезала дорогу, по которой отряд Колесса прорвался в финский тыл, и отряд оказался в окружении.
Тем не менее в ночь с 19 на 20 февраля ситуация в районе Пиен-Перо - Мусталампи оставалась для финнов крайне тяжелой. Командир 62-го пехотного полка подполковник Иконен остался без связи со штабом 5-й дивизии - его КП был отрезан советскими танками. Под угрозой оказался пункт перевязки и сбора раненых 3-го батальона 61-го пехотного полка. Танкисты 1-й легкотанковой бригады заняли круговую оборону на шоссе Хотакка - Выборг и стреляли по всему, что движется, сея панику и неразбериху в финских тылах. Прямо под пушки советских танков выехала финская машина, шедшая по шоссе от Кямяря. Слухи о советском танковом прорыве распространялись в финских штабах со скоростью пожара, ситуация продолжала оставаться крайне неясной. По советским данным, было уничтожено 3 грузовика и легковая машина, по неполным финским данным - одна машина.
20 февраля такой же прорыв через финскую линию обороны у Мусталампи совершила группа Баранова. К 20.30 13-й отдельный танковый батальон, рота 15-го отдельного танкового батальона, 205-й разведбат с батальоном 210-го стрелкового полка на броне вышли к юго-западной окраине Пиен-Перо.
Финские артиллеристы оказались бессильны остановить прорыв второй группы БТ:
…прорыв новых танков противника в тыл огнем артиллерии остановить не удалось - проход, сделанный ими в надолбах, был вне поля зрения наших артиллерийских корректировщиков. Пользы от мин на шоссе тоже не было никакой, так как у первого танка было устройство наподобие снегоуборочного ковша с острыми краями. Танк либо сбрасывал мины с дороги, либо разбивал их деревянные корпуса так, что верхняя часть со взрывателем отлетала и мина не взрывалась.
Вечером 20 февраля комбриг Иванов приказал отряду лейтенанта Колесса выходить из боя и прорываться обратно через высоту 45,0 в исходное положение, что Колесса и сделал. К 18.00 20 февраля его отряд, после 25-часового нахождения в окружении в тылу противника, вышел в расположение своих частей и отошел в район станции Кямяря.

Потери отряда 1-й легкотанковой бригады составили:
а) В личном составе убито - 2 средних командира, 5 младших командиров и красноармейцев. Ранено - 1 средний командир, 10 младших командиров, 43 красноармейца. Без вести пропавших 7 человек.
б) Матчасть - 1 танк сгорел, 4 танка подбиты ПТО, 3 танка - сорван поворотный механизм, 1 танк - разбит качающий рычаг, 1 танк - сорван бандаж ведущего колеса, 1 танк - вмят картер бортовой передачи.
После этого отряд 1-й легкотанковой бригады ушел в тыл для отдыха и пополнения. Настала очередь танкистов 13-й легкотанковой бригады.
В ночь с 20 на 21 февраля командир 15-го отдельного танкового батальона майор Вязников все время просил, чтобы подошла пехота, которая шла крайне медленно. Видя нерасторопность пехоты, полковник Баранов принял решение мобилизовать роту 15-го отб и десантом перебросил в район Пиен-Перо до полутора батальонов пехоты на броне.
И снова к 10.00 21 февраля финская пехота перерезала дорогу между озером Мусталампи и Пиен-Перо, окружив тем самым отряд лейтенанта Колесса и отряд Баранова. С отрезанными частями находился и командир 84-й стрелковой дивизии. В то же самое время финская пехота вновь заняла высоту 45,0.
21 и 22 февраля батальоны 13-й танковой бригады потеряли 3 танка подбитыми, 3 танка подорвались на минах и 1 танк сгорел.
22 февраля 6-й и 9-й танковые батальоны 13-й легкотанковой бригады при поддержке 153-го стрелково-пулеметного батальона снова штурмовали высоту 45,0 и сумели занять ее южные скаты. 6-й батальон майора Житнева в тот день потерял 6 танков подбитыми.
23 февраля танкисты 13-й бригады решили покончить с финской пехотой на высоте одновременным ударом 15-го танкового батальона с севера, и силами 163-го стрелково-пулеметного батальона, 344-го стрелкового полка, 6-го танкового батальона и 13 танков из 9-го танкового батальона - с юга. Однако атака на высоту с самого начала пошла не так - артиллерия 84-й стрелковой дивизии по ошибке накрыла танки 15-го батальона, атакующие с севера. Сигналы ракетами и сообщения по радио никакого эффекта не имели. Начальнику штаба 13-й легкотанковой бригады майору Крылову пришлось вскочить в свой БТ и мчаться на КП 84-й стрелковой дивизии. Только после личного общения с начальником артиллерии 84-й стрелковой дивизии артобстрел своих же танков был прекращен.
Однако атака была сорвана, два танка 15-го батальона были подбиты своей же артиллерией, два танка 6-го батальона, шедшие на соединение с 15-м батальоном, финны сожгли на высоте. 13-й батальон потерял 2 танка подбитыми.
24, 25 и 26 февраля к высоте медленно подтягивалась пехота 84-й и 51-й стрелковых дивизий. 24 февраля бригада потеряла два танка подбитыми. 26 февраля намеченная атака на высоту не состоялась, так как 84-я стрелковая дивизия не смогла в назначенные сроки организовать артподготовку.
Дальше к Выборгу советские части сумели продвинуться только к 28 февраля 1940 года. Таким образом, подорвав мост у Пиен-Перо и отрезав путь снабжения прорвавшейся группе Баранова, финны сорвали рейд советских БТ по своим тылам.
Вернемся в район наступления группы Борзилова. 23 февраля советские части нанесли новый удар западнее железной дороги. Двое суток финской пехоте из 14-го пехотного полка удавалось с трудом удерживать позиции, но 25 февраля финские позиции впервые атаковали тяжелые танки КВ, и их боевой дебют оказался впечатляющим.
К 14 февраля Кировский завод произвел два спецтанка КВ. Они были незамедлительно отправлены на фронт. Уже 15 февраля 1940 года танки прибыли на станцию Перкъярви (Кирилловское) и своим ходом направились в 20-ю танковую бригаду. После одного километра марша командир группы старший лейтенант Петин услышал в дизелях обеих машин скрип и стук.

Машины пришлось остановить и тащить 10 километров в район расположения бригады на буксире.
Особый отдел сразу заподозрил умышленную порчу боевых машин, но ни опрос экипажей танков, ни осмотр не дал оснований для возбуждения уголовного дела. Из-за ремонта и доводки двигателей танки отправились на фронт только пять дней спустя.
Именно ввод в бой танков КВ привел к прорыву финских позиций в районе озера Няюккиярви и у полустанка Хонканиеми. Офицеры финского 14-го пехотного полка с удручением констатировали: «Противник успешно применил сорокатонные танки и прорвал нашу оборону. Артиллерия противника уничтожила „Марианну“ ».
По данным командиров 245-го стрелкового полка, уничтожили финскую противотанковую пушку именно танки КВ. Выдержка из журнала боевых действий полка за 25 февраля 1940 года:
…Задача полка овладеть поселком Хонканиеми. В 14.00 после получасовой артподготовки полк начал наступление. Танки, предшествуемые саперами, двинулись вперед. Танки КВ уничтожили противотанковую пушку. Танки Т-28 и Т-26 двинулись вперед, пехота пошла за ними. К 21.00, сломив сопротивление противника, полк вышел на окраину поселка и занял район обороны по северной окраине поселка Хонканиеми.
В оперсводке финской Карельской армии за тот же день отмечается:
14-мм противотанковые ружья не пробивают танки типа Т-26 (очевидно, речь идет об экранированных танках. - Примеч. авт.).
25-мм французские противотанковые пушки не пробивают 33-тонные танки (скорее всего, речь идет о КВ. - Примеч. авт.).
Ситуация в районе полустанка Хонканиеми стала столь угрожающей, что вечером 25 февраля командующий 2-м Армейским корпусом генерал-лейтенант Эквист подчинил 23-й дивизии 3-й егерский батальон и 4-ю бронетанковую роту Танкового батальона. Эти резервы должны были контратакой восстановить положение и отбросить прорвавшиеся советские части. Результатом финской контратаки стал единственный танковый бой Зимней войны.
В 22.15 25 февраля финские егеря и танкисты получили приказ перейти в наступление утром 26 февраля и уничтожить прорвавшуюся пехоту противника в районе полустанка Хонканиеми и дачного поселка западнее железной дороги. Командование обещало артподготовку силами трех дивизионов. При успехе наступления в бой должны были вступить еще два батальона 67-го пехотного полка.
3-й егерский батальон был переброшен на грузовиках в Хепонотко и вышел на исходные позиции после лыжного марша к 04.00 утра 26 февраля.
4-я танковая рота лейтенанта Хейнонена совершила ночной марш с железнодорожной станции Кархусуо и прибыла на исходные на полчаса позже егерей. Во время марша 5 танков роты вышли из строя из-за отказов двигателей (расследование по горячим следам установило, что в бензине была вода, которая замерзла в карбюраторах). В результате на исходные позиции прибыло только 8 танков. Атака должна была начаться в 05.00, то есть для организации взаимодействия у егерей и танкистов было около получаса. Вдобавок сразу же по прибытии на исходный рубеж сломалось еще два танка. В результате план наступления был такой: 2-я и 3-я егерские роты наносили основной удар при поддержке четырех «Виккерсов», 1-я егерская рота с двумя «Виккерсами» прикрывала их левый фланг.
Установить связь с артиллерией не удалось, и время наступления перенесли на 06.15. Артиллеристы даже не удосужились прислать на передовую артиллерийского разведчика, и в результате финская артиллерия накрыла исходные своих же егерей и танкистов. «Казалось, что на исходных лес был поднят в воздух, и все заволокло дымом и пылью». 30 человек было убито и ранено. Роты начали отходить, и все взаимодействие пришлось увязывать снова. Танки пошли в бой только в 07.15, а егеря присоединились к атаке чуть позже. «Виккерсы» медленно и с большим трудом преодолели заснеженное поле (глубина снега была около метра), перевалили через насыпь железной дороги и сразу напоролись на несколько Т-26 35-й легкотанковой бригады. Это приехали на рекогносцировку местности командиры рот 112-го отдельного танкового батальона бригады. Огонь по «Виккерсам» вели танки командиров рот Кулабухова, Старкова и Архипова. Финские танкисты заметили, что егеря за ними не пошли, и были вынуждены вернуться за ними к полотну железной дороги. Затем финские танкисты снова пошли в атаку. На этот раз их встретили уже две роты танков Т-26 из 35-й легкотанковой бригады. Четыре победы на свой счет записал капитан Архипов Василий Федорович, позднее дважды Герой Советского Союза. Всего финны потеряли пять танков.

Сержант Миккола, экипаж танка № 648:
…В двухстах метрах за полотном железной дороги сразу обнаружились русаки, я заметил палатку, в которую мы послали один фугасный снаряд. Оттуда вывалилось до хрена русаков, которые вроде бы хотели сдаться, так как начали поднимать руки перед нашим танком. Однако наш автоматчик сразу с ними разделался, низкорослые русаки схватились за животы, попадали на снег и остались там лежать. Тут я заметил два русских танка совсем рядом с моим, о чем сразу сообщил младшему сержанту Линкохака. Наша башня начала поворачиваться, как всегда, медленно, и я думаю, что хоть Линкохака по ним из пушки и стрелял, но не попал. Мы шли на первой передаче, так что скорость тоже не была помехой.
Я видел, что у русских танков работают моторы, так как за ними поднимался дым. В один из танков как раз пытались забраться два танкиста, но остались лежать убитыми на броне, благодаря нашему автоматчику.
У нас начался, конечно, горький спор о том, кто в экипаже главный. Я отдавал какие угодно команды, так как мне нужно было взять русский танк на прицел, и поэтому мехвод несколько раз поворачивал танк как мне было нужно, но русский танк было видно все равно плохо. Вокруг кишели русаки, какой-то другой русский танк обошел нас с тыла и всадил нам в башню бронебойный снаряд. Болванка пробила башню, пролетела между мной и Линкохака на уровне плеч и разбила пушку.
Мехвод в то же время доложил, что танк застрял и никуда не поедет. Я открыл башенный люк и бросил взгляд назад - я увидел, что русский танк в 30 метрах от нас и обстреливает нас из пулеметов.
Я сообразил, что в этой ситуации больше невозможно управлять взводом из своего танка и приказал экипажу покинуть машину и залечь. Я взял автомат и вылез через башню, а русаки чудом в меня не попали. Я перебежками направился к нашей цели - берегу озера, надеясь встретить там другие танки своего взвода, забраться в один из них и продолжить бой, но ни один из наших танков туда не дошел, и русаки наконец попали мне в ногу сбоку.
Миккола пролежал весь день в снегу и вечером сумел выйти к своим. Остальные члены экипажа - младший сержант А. Линкохака, капрал Э. Нумминен и рядовой Мякинен - пропали без вести.
«Виккерс» № 668 застрял в непосредственной близости от штаба 245-го стрелкового полка. Танк налетел на дерево, не смог его повалить, после чего экипаж решил срубить дерево топором. Но пень получился таким высоким, что танк сразу сел на него днищем и дальше двигаться не смог. Экипаж покинул танк и был перебит советскими связистами из штаба 245-го стрелкового полка. По финским данным, рядовой Э. Оянен из экипажа сумел уйти к своим, младший сержант Ээро Сало был убит у танка, а младший сержант Матти Пиетиля и рядовой Арнольд Аалто пропали без вести. По словам капитана А. Макарова, один финский танкист из экипажа «Виккерса» № 668 попал в плен:
Второй танк пробрался к командному пункту батальона. Метрах в десяти он вдруг закачался, будто приподнятый с земли могучей рукой. Туда-сюда - ни вперед, ни назад. Оказалось, наскочил на пень, не может съехать с места. Но башня у него ворочается, сидящим в землянке грозит гибель…
Выручает непредвиденное обстоятельство. Пущенный ловко нашими артиллеристами снаряд валит стоявшую возле танка толстую сосну. Сосна, падая, ударяет о ствол пушки, направленный на землянку, и отводит его в сторону. Сосна так и осталась на башне, и, сколько танкист ни старался сбросить ее, ничего у него не получилось.
Один из финнов, находившихся в танке, открывает люк и стреляет из автомата. Его подсекает из винтовки командир взвода лейтенант Шабанов. Двое других финнов-танкистов стремятся выскочить. Но возле танка уже бойцы-минометчики из подразделения тов. Рубенко. Финны пытаются защищаться. Один падает, сраженный пулей, другого бойцы вежливенько волокут за шиворот к командному пункту.

«Виккерс» № 664 (командир танка - младший сержант Расси) прошел за полотно железной дороги около 75 метров, после чего наткнулся на канаву, которую не смог преодолеть, несмотря на несколько попыток. После этого танк вернулся к железной дороге и попробовал найти другой проход. Затем экипаж заметил, что егеря за ним не идут, и остановился у железной дороги.
В этот момент у танка заклинило башню, и командир роты приказал танку вернуться на исходные позиции.
«Виккерс» № 670 (командир танка - фенрик С. Вирмио) выехал на опушку леса и заметил, что егеря за танком не пошли. Танк вернулся обратно за егерями по своим следам и снова пошел в атаку. Экипаж заметил, что советская пехота разбегается и прячется в погребах и блиндажах. Танк открыл по ним огонь из пушки фугасными снарядами, из пулемета и автомата. После этого танк еще раз вернулся за егерями и в третий раз пошел в атаку, на этот раз забрав влево. Здесь он сразу напоролся на советские танки. Очевидно, что наводчик сумел попасть в один из советских танков, так как тот развернулся и быстро уехал, но сам «Виккерс» сразу получил попадание откуда-то справа. Попадание заклинило башню и ранило фенрика С. Вирмио. Танк развернулся и попытался уйти за железную дорогу, но тут же получил еще одно попадание в моторное отделение, и двигатель заглох. Экипаж был вынужден покинуть машину. Из-за сильного огня с советской стороны экипаж бросил раненого командира танка, который сам позже выполз к своим.
«Виккерс» № 655 (командир танка - фенрик О. Войонмаа) прошел через поле у железной дороги и остановился на опушке, ожидая, пока подтянутся егеря. Танк вел огонь по заявкам пехоты и уничтожил по крайней мере два советских пулемета. Несколько минут спустя танк получил попадание в башню и в моторное отделение и загорелся. Экипаж покинул машину. Механик-водитель, танкист В. С. Мякинен притащил с собой из танка два автомата и затвор от танкового пулемета.

«Виккерс» № 667 (командир танка - младший сержант Э. Сеппяля) шел за машиной командира взвода Миккола и дошел до опушки леса. Увидев, что егеря за танками не пошли, вернулся к железной дороге и оттуда пошел в атаку снова. Но не успел он отъехать от железной дороги, как получил попадание в башню и в ленивец и лишился хода. После этого танк вел огонь с места. Место наводчика по собственной инициативе занял капрал Э. Уутела из «Виккерса» № 670. Он вел огонь по заявкам своей пехоты по советским пулеметам и танкам, идущим мимо. По крайней мере один танк ему удалось поджечь. Во второй танк он попал и лишил его хода.

Командиры 245-го стрелкового полка:
Один танк противника подошел к командному пункту комбата 1, но сел на камень, дерево препятствовало ему повернуть орудие. Выскочившие связисты, когда противник пытался открыть люк танка, обстреляли его из винтовок и перебили экипаж. Остальные танки противника, встреченные огнем наших танков, отошли.
В 11.00 противник вновь возобновил контратаку. Подошедшие к этому времени 2 роты танков расстреляли все танки противника. Пехота противника была отбита пулеметным огнем и танками.
Всего финская рота «Виккерсов» потеряла пять танков, два офицера были ранены, один младший сержант погиб. Пять членов экипажей пропали без вести.
Так неудачно закончился дебют финских танкистов на Советско-финской войне. Всего за февраль - март 1940 года финские бронетанковые части потеряли восемь танков, из которых семь остались на поле боя.
После этой неудачной контратаки финская оборона начала сыпаться под ударами советских танковых частей. 28 февраля 1940 года финны начали отход на последнюю линию обороны под Выборгом. В конце февраля и начале марта 1940 года под Выборгом закипела еще одна невиданная доселе битва - на льду замерзшего Выборгского залива.
Наступление на обороняющегося противника начинается обычно с прорыва. В годы Великой Отечественной войны в ряде наступательных операций советские войска продемонстрировали блестящую подготовку и осуществление прорыва. Всесторонний учет складывающейся обстановки, принятие смелых и оригинальных решений, искусное массирование сил и средств на главных направлениях, четкое взаимодействие, всестороннее обеспечение боевых действий, гибкое управление войсками - все это было характерно для деятельности советского командования при осуществлении прорыва вражеской обороны.
В современных условиях, как и в прошлом, успех прорыва будет зависеть от тщательности его подготовки, активности и решительности действий войск. Способы прорыва в зависимости от конкретных условий обстановки могут быть различными. В одних случаях перед переходом войск в атаку по важнейшим объектам в обороне противника могут наноситься ядерные удары, в других - взлом обороны будет осуществляться огнем артиллерии и ударами авиации с последующим решительным продвижением мотострелковых и танковых подразделений в глубину обороны противника и расширением прорыва в стороны флангов.
Достижение высокого темпа прорыва во многом зависит от организованности и решительности атаки. Она заключается в стремительном и безостановочном движении танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке в сочетании с ведением интенсивного огня из танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), а по мере сближения с противником - и других видов оружия в целях его уничтожения (разгрома). Главное, что обеспечивает успех атаки, - это ее напористость, дерзость действий атакующих, внезапность удара, стремительность маневра, непрерывное сочетание огня и движения.
Способы атаки в решающей степени зависят от интенсивности огневого воздействия на оборону, ударной силы и подвижности подразделений. Если в первую мировую войну удар, по существу, осуществлялся «грудью пехоты» при сравнительно слабом огневом обеспечении, то во вторую мировую войну в результате значительного насыщения боевых порядков пехоты танками и артиллерией решительность атаки увеличилась.
Глубина безостановочного продвижения атакующих войск вслед за огневым валом в операциях 1944–1945 гг. нередко составляла 3–4 км, а темп атаки - 1–1,5 км/час. Однако было немало случаев, когда пехоте не удавалось преодолеть огневое сопротивление противника и атака срывалась. Главной причиной этого являлось недостаточно надежное подавление обороны огнем, в результате противнику удавалось быстро восстановить нарушенную в ходе артиллерийской и авиационной подготовки атаки систему огня и оказать организованное сопротивление атакующим.
Атака в современном бою осуществляется в тесном взаимодействии танковых и мотострелковых подразделений. Ведущую роль в ней играют танки. Подавляя и уничтожая совместно с артиллерией огневые средства противника, танки создают условия для стремительного продвижения наступающих войск. Танковые подразделения атакуют в боевой линии.
Атака мотострелковых подразделений на тех направлениях, где оборона противника, особенно его противотанковые средства надежно поражены ядерным или обычным оружием, осуществляется на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) без спешивания личного состава. При прорыве заблаговременной, тщательно подготовленной, развитой в инженерном отношении обороны противника или его укрепленного района без применения ядерного оружия атака мотострелковых подразделений осуществляется в пешем порядке. Этим же способом осуществляется атака и при наступлении подразделений на труднодоступной местности, а также при действиях в условиях ограниченной видимости.
При атаке в пешем порядке мотострелковые подразделения развертываются в цепь, продвигаясь за танками на удалении, обеспечивающем их безопасность от разрыва снарядов своей артиллерии и поддержку танков огнем стрелкового оружия. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) поражают цели, препятствующие продвижению атакующих подразделений. Они продвигаются скачками от рубежа к рубежу, от укрытия к укрытию, и как только создаются благоприятные условия, личный состав мотострелковых подразделений производит посадку в боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и решительно устремляется вперед.
Во время атаки основные усилия артиллерии и авиации, поддерживающих действия мотострелковых и танковых подразделений, сосредоточиваются на уничтожении противника и опорных пунктах, особенно на первой линии его обороны, и открыто расположенных огневых средств, а также на подавлении выдвигающихся резервов. Орудия и танки, выделенные для стрельбы прямой наводкой, а также установки ПТУР уничтожают наблюдаемые огневые средства, разрушают фортификационные сооружения на переднем крае и в ближайшей глубине обороны. Боевые вертолеты, действуя из засад, наносят удары в первую очередь по танкам и другим бронированным объектам противника. Под прикрытием огня артиллерии инженерно-саперные подразделения проделывают проходы в заграждениях противника перед передним краем его обороны.
Боевой опыт учит, что искусство скрыть начало атаки является основным фактором ее успеха. Надо, чтобы противник не сумел изготовиться для отражения первого броска атакующих подразделений. С этой целью в ходе огневой подготовки атаки могут осуществляться ложные переносы огня артиллерии в глубину обороны. В период Великой Отечественной войны такой тактический прием умело использовался советскими войсками.
Перед атакой 3-й гвардейской стрелковой дивизии на Перекопском перешейке и апреле 1944 г. график артиллерийской подготовки предусматривал проведение двух ложных переносов огня, во время которых пехота имитировала начало атаки, что в немалой степени способствовало достижению внезапности удара.
Удачной явилась также ложная атака, проведенная специально выделенными взводами за 30 мин до окончания артиллерийской подготовки на всем фронте наступления 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта в Висло-Одерской операции. Ложные действия противник посчитал за атаку главных сил, вывел свои войска для ее отражения и в результате понес большие потери от артиллерийского огня.
При переходе от огневой подготовки атаки к огневой поддержке важно не допустить разрыв во времени между моментом переноса огня артиллерии в глубину обороны и броском мотострелковых подразделений и танков в атаку, чтобы противник не мог изготовиться к отражению атаки. В тех случаях, когда в минувшую войну этого сделать не удавалось, атака обычно успеха не имела.
При прорыве в августе 1943 г. (Курская битва) соединениями 11-й гвардейской армия немецко-фашистской обороны пехота на ряде участков фронта начала атаку только через 10–12 мин после окончания артиллерийской подготовки. В результате пришлось задержать артиллерийскую поддержку атаки. Образовалась пауза в действиях войск, воспользовавшись которой противник сумел восстановить систему огня на переднем крае и нанести большие потери атакующим подразделениям.
Боевой опыт показывает, что разрыв во времени между переносом огня артиллерии с переднего края обороны в глубину и броском пехоты в атаку не должен превышать 2–4 мин. Пехота должна уметь стремительно бросаться вперед, используя результаты артподготовки и последнего огневого налета по переднему краю обороны противника.
В ходе атаки ведется непрерывная борьба с противотанковыми средствами противника. Система противотанковой обороны является сейчас, по существу, основой обороны. Резко возросла плотность противотанковых средств. Если в период Великой Отечественной войны такая плотность на важнейших направлениях составляла около 20–25 противотанковых единиц на 1 км фронта, то теперь по опыту учений войск НАТО она повысилась в 2–3 раза.
Мотопехотная дивизия ФРГ, имея 252 средних танка, 200 боевых машин пехоты, 136 орудий и минометов, 189 пусковых установок ПТУР, способна в полосе оборины 30 км создать плотность танков и ПТУР на главных направлениях 40–50 единиц.
Еще большими возможностями обладает бронетанковая дивизия армии США. Она имеет 360 танков, 164 орудия и миномета, 225 пусковых установок ПТУР, 173 вертолета с установками ПТУР на борту и в состоянии создать среднюю плотность около 25 единиц (без учета противотанковых гранатометов и вертолетов), а на главных направлениях - 50–60 единиц.
В послевоенный период значительно увеличились боевые возможности противотанкового оружия - дальнобойность и точность стрельбы, мощность снаряда (ракеты).
Дальность стрельбы некоторых систем противотанкового оружия, по данным зарубежной печати, составляет 4–5 км и более, в то время как в конце второй мировой войны она не достигла и 1000 м. Из батальонного района обороны армии ФРГ могут вести огонь на дальность до 3 км 15 единиц, на дальность 2 км - 30–35, на 500 м - 45–50 единиц. К тому же их огонь может усиливаться и наращиваться за счет маневра противотанковыми средствами, особенно противотанковыми вертолетами, частей и соединений.
Чтобы нарушить систему противотанковой обороны противника, требуется еще в период огневой подготовки атаки подавить (уничтожить) или нейтрализовать значительную часть его противотанковых средств (по опыту локальных войн до 70–80 процентов их общего количества). Для этого надо хорошо разведать систему обороны противника, точно знать местоположение каждого окопанного танка, орудия, боевой машины пехоты, а также пусковых установок ПТУР. Опыт учений показывает, что успех в наступательном бою зависит прежде всего от того, насколько тщательно противник разведан и насколько точно и надежно налажен огонь по важнейшим объектам и целям его обороны.
Результаты огневых ударов по противотанковым целям должны незамедлительно использоваться атакующими танками. Чем неожиданнее и стремительнее будет атака, тем меньше потерь понесет наступающий, тем быстрее получит возможность преодолеть зону сплошного многослойного противотанкового огня противника. Опыт тактических учений показывает, что при повышении темпа атаки в 1,5 раза потери атакующих подразделений от огня противника снижаются в 2–3 раза.
Большими возможностями в борьбе с противотанковыми средствами противника располагают танковые и мотострелковые подразделения, приданная и поддерживающая артиллерия, танки и боевые машины пехоты, а также противотанковые подразделения. Последние продвигаются обычно за боевыми порядками рот первого эшелона в готовности к уничтожению танков и других бронированных объектов противника, препятствующих атаке подразделений.
Повысить живучесть танков и их защищенность от высокоточного оружия и ПТУР противника в ходе наступления можно за счет использования защитных свойств местности, а также умелого маневрирования на поле боя. Наибольший эффект дают резкие изменения направления движения примерно через каждые 40–50 м под углом 20–30° к направлению атаки. При наличии у танков вооружения, стабилизирующегося в горизонтальной плоскости, эффективность огня при таком маневрировании не снижается.
Успех современного наступления, ведущегося при массовом участии авиационных средств, невозможен без надежного подавления системы противовоздушной обороны. Подавление и уничтожение зенитных средств противника начинается в период огневой подготовки атаки и продолжается в ходе наступления с привлечением для этой цели всего комплекса огневых средств, имеющихся в войсках.
В ходе наступления ведется непрерывная борьба с вертолетами противника. Необходимо своевременно обнаруживать боевые вертолеты противника, оповещать подразделения о возможности их ударов, срывать действия вертолетных десантов противника. Для борьбы с вертолетами противника определяются наиболее вероятные рубежи нанесения ими ударов, боевые задачи подразделений по их уничтожению и порядок применения огневых средств, задачи артиллерии по уничтожению вертолетов в районах их базирования и на рубежах нанесения ударов, порядок ведения огня зенитными пулеметами танковых подразделений и из стрелкового оружия, когда вертолеты находятся в зоне действительного огня этих средств, порядок маневра средств ПВО на направления возможных действий вертолетов, а также использования дымов для маскировки подразделений.
Сложностью обстановки, быстротой и резкостью ее изменений характеризуется бой в глубине обороны противника. В этот период наступающие подразделения могут выполнять различные по содержанию и характеру боевые задачи - осуществлять разгром выдвигающихся резервов, отражать контратаки противника, уничтожать его средства ядерного нападения, системы высокоточного оружия, преодолевать зоны радиоактивного заражения, инженерные заграждения, завалы и районы разрушений, вести борьбу с воздушными десантами и аэромобильными подразделениями противника, с его отсеченными группировками и т. д.
Одной из важных задач мотострелковых и танковых подразделений, а также тактических воздушных десантов является захват и уничтожение (вывод из строя) наземных элементов разведывательно-ударных комплексов противника. С выходом к объекту они организуют его разведку, выявляют систему охраны и обороны, скрытые подступы к нему, а затем решительной атакой с различных направлений захватывают или уничтожают пункты управления и радиоэлектронные объекты противника.
Для успешного решения задач в ходе наступления подразделения должны широко осуществлять гибкий и смелый маневр огнем, силами и средствами. Каждую брешь, каждое уязвимое место в боевом построении противника нужно использовать для выхода во фланг и тыл его опорным пунктам, стремительного продвижения в глубину и нанесения внезапного удара. Важно не оттеснять вражеские группировки с одной позиции на другую, а рассекать их, окружать и уничтожать по частям. «Оттеснен враг, - учил А. В. Суворов, - неудача, отрезан, окружен, рассеян - удача».
В ходе наступления командир должен постоянно следить за развитием обстановки, организовать разведку противника, своевременно ставить задачи подразделениям, уточнять взаимодействие, организовать боевое, техническое и тыловое обеспечение, добиваться неуклонного выполнения поставленных задач, невзирая ни на какие трудности.
Разведка при ведении боя в глубине обороны противника должна установить степень огневого поражения опорных пунктов противника, какие меры он предпринимает для восстановления нарушенной системы огня и заграждений, какие огневые точки мешают продвижению подразделений, наличие систем высокоточного оружия, характер заграждений, разрушений и препятствий и пути их обхода, состав резервов противника и направления их выдвижения.
Успех действий наступающих войск во многом зависит от поддержания в ходе боя четкого и непрерывного взаимодействия. С этой целью командир батальона периодически уточняет задачи мотострелковых и танковых подразделений, согласовывает их действия с огнем артиллерии и ударами авиации, действиями гранатометного, противотанкового, пулеметного подразделений и соседей по уничтожению противника в опорных пунктах, его огневых средств, особенно средств ядерного и химического нападения, систем высокоточного оружия, ставит дополнительные задачи артиллерии и другим огневым средствам, с тем чтобы обеспечить непрерывную поддержку огнем наступающих подразделений, их действия при отражении контратак противника, преодолении заграждений и препятствий, уточняет порядок перемещения в ходе боя второго эшелона (резерва), артиллерии и других штатных и приданных средств, при необходимости уточняет задачи зенитного подразделения по прикрытию батальона от ударов воздушного противника.
В целях защиты от высокоточного оружия противника должны создаваться ложные объекты. Для имитации действий танков, БМП, БТР могут использоваться макеты, изготовленные из металла или других материалов, покрытых краской, с размещением внутри них (за ними) небольших источников тепла. Это способствует дезориентации радиоэлектронных средств разведки противника.
Для защиты подразделений от высокоточного оружия противника при благоприятных условиях в ходе наступления могут также использоваться дымовые средства. С этой целью организуется постановка дымовых и других завес. Расчет делается таким образом, чтобы размеры завес в 1,5–2 раза превышали, площадь объекта типа рота (батарея). Количество локальных дымовых завес должно быть в 2–3 раза больше, чем число защищаемых объектов. На один объект выделяется 2–3 дымовые машины или дымовые шашки из расчета их сжигания в каждой очереди по 20–30 шт.
В ходе наступления подразделениям приходится преодолевать различного рода инженерные заграждения. Сейчас, когда противник имеет возможность, используя средства дистанционного минирования, внезапно создавать заграждения не только перед фронтом наступающих войск, но и в их тылу, возникает необходимость повышения мобильности действий подразделений при наличии массовых очагов минирования. Способы преодоления заграждений могут быть различными. Если возможно, минные поля обходятся, а при невозможности их обхода преодолеваются по проходам, для устройства которых могут создаваться группы разграждения из состава инженерно-саперных подразделений и танков, оснащенных навесным оборудованием.
В условиях массового применения противником различного рода минно-взрывных заграждений весь личный состав должен быть обучен осуществлять разминирование местности. Уже в минувшую войну Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский требовал, чтобы каждый пехотинец был и сапером, и минером, умел самостоятельно найти и обезвредить мину. Сейчас это требование особенно актуально.
По мере вклинения наступающих войск в оборону противник будет усиливать сопротивление, делать все возможное, чтобы локализовать прорыв. Поэтому в ходе боя будет проходить напряженное состязание сторон в наращивании боевых усилий. В таких условиях важное значение имеет упреждение противника в нанесении огневых ударов, срыв его замысла. Важно не дать ему возможности восстановить нарушенную систему огня и заграждений, планомерно осуществить перегруппировку сил и средств вдоль фронта и из глубины. Для этого скорость продвижения атакующих подразделений должна превосходить скорость маневра обороняющегося противника. Инициатива действий и управление войсками должны прочно удерживаться командирами атакующих подразделений.
Важную роль в развитии достигнутого успеха играет своевременный ввод в бой второго эшелона (резерва), который предназначается для наращивания усилий в целях развития достигнутого успеха, поддержания необходимого превосходства в силах и средствах над противником на главном направлении. В наступательных операциях советских войск в Великую Отечественную войну нередко возникала необходимость ввести в бой батальонные и полковые резервы (вторые эшелоны) уже в ходе прорыва первой позиции вражеской обороны, вторые эшелоны дивизий и корпуса вводились при прорыве второй или третьей позиции. В результате нередко приходилось преждевременно вводить в сражение подвижную группу армии (фронта), что отрицательно сказывалось на развитии операции.
В современных условиях в связи с высокой динамичностью наступления ввод в бой частей и подразделений второго эшелона (резерва) может осуществляться на более значительной глубине. Второй эшелон батальона, например, может вводиться после выполнения батальоном ближайшей задачи, то есть после овладения им первой позицией обороны противника.
Большое значение имеет правильный выбор времени ввода в бой второго эшелона (резерва). Наращивание усилий должно произойти в тот момент, когда продвижение подразделений первого эшелона еще не остановлено, но налицо реальная опасность снижения темпа продвижения.
Командиру важно правильно и своевременно установить, когда вводом в бой дополнительных сил из глубины необходимо создать решительное превосходство в силах и средствах над противником на главном направлении и стремительно развивать успех в глубину или в сторону фланга. Для этого командир должен внимательно следить за обстановкой, предвидеть нарастание кризисной ситуации.
Примером в этом отношении является ввод в бой второго эшелона мотострелкового батальона на учениях «Запад-81». Обстановка сложилась так, что «южные», потеряв первую позицию, стали поспешно выдвигать резервы для нанесения контратаки и усиления обороны в глубине. Это было вовремя обнаружено разведкой «северных». Оценив обстановку, командир батальона «северных» принял решение ввести в бой второй эшелон. Ход боя показал, что это было сделано своевременно. Наступающим подразделениям удалось сорвать замысел обороняющихся и не допустить снижения темпа наступления. «Южные» не успели развернуться для нанесения контратаки и не смогли оказать упорного сопротивления. «Северные» успешно осуществили прорыв обороны.
Для ввода в бой второго эшелона используются промежутки между опорными пунктами противника, а также бреши, образовавшиеся в его боевых порядках в результате нанесения ядерных и огневых ударов. Это обеспечивает стремительное продвижение подразделений в глубину обороны, нанесение по противнику внезапных ударов, быстрое уничтожение его средств ядерного нападения, систем высокоточного оружия и других огневых средств, пунктов управления, захват важных объектов в тылу.
При вводе в бой второго эшелона (резерва) его командиру обычно сообщаются сведения о противнике, положение подразделений первого эшелона, рубеж ввода в бой и время выхода на него, ближайшая задача и направление дальнейшего наступления, средства усиления, места и время их прибытия, порядок огневого обеспечения ввода в бой и взаимодействия с подразделениями первого эшелона.
Опыт тактических учений показывает, что при вводе в бой особое внимание следует обращать на своевременную постановку или уточнение задачи роте второго эшелона и переподчинение ей средств усиления, а также на выдвижение и развертывание второго эшелона в боевой порядок.
Свою задачу по разгрому противника подразделения второго эшелона (резерва) могут решать во взаимодействии с тактическим воздушным десантом, а также с подразделениями передового отряда, при этом их действия согласуются по цели, месту и времени.
Большую роль в обеспечении действий подразделений при бое в глубине обороны противника играет армейская авиация. Она может действовать методом одновременного поиска и уничтожения противника в определенном районе, а также методом нанесения ударов по объектам (целям), вскрытым разведкой. Для поиска, как показывает опыт локальных войн, выделяется пара вертолетов огневой поддержки. Дистанция между ними по глубине 1000–1500 м при такой же высоте. Обнаружив цель, вертолеты наносят по ней удар, а при необходимости вызывают группу усиления и наводят ее на объект удара. Для нанесения ударов по заданным целям назначается смешанная группа самолетов и вертолетов.
Стремясь остановить продвижение наступающих подразделений в глубину своей обороны, противник на важнейшем направлении может наносить контратаки. В минувшую войну наступающие войска, не обладая необходимой ударной и огневой мощью, при угрозе нанесения обороняющимся противником контратаки, особенно крупными силами, как правило, останавливались на достигнутом рубеже, закреплялись на нем и, используя выгодные условия местности и организованную систему огня и заграждений, отражали контратаку. Такой способ был эффективен, но неизбежно приводил к снижению темпа продвижения.
Сегодня наступающие подразделения, располагая более мощными и дальнобойными средствами поражения, при отражении контратаки стремятся нанести максимальное поражение резервам противника по мере их выявления на дальних дистанциях - в районах их сосредоточения и при выдвижении. С этой целью средствами старшего командира (начальника) по противнику наносятся ядерные и огневые удары, а наступающие подразделения при благоприятных условиях осуществляют разгром выдвигающихся резервов во встречном бою с ходу. Это позволяет отражать контратаку противника, не снижая существенно темпа продвижения.
Если же контратакующему противнику удастся создать решающее превосходство в силах и средствах на направлении удара, наступающие войска будут вынуждены для отражения контратаки частью сил закрепиться на достигнутом рубеже. На угрожаемое направление выдвигаются противотанковый резерв и подвижный отряд заграждений, с тем чтобы совместно с подразделениями первого эшелона огнем и заграждениями нанести противнику поражение, задержать его продвижение и создать выгодные условия для успешного развития наступления. Танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры), действующие в составе подразделений первого эшелона, занимают огневые позиции за ближайшими укрытиями, личный состав мотострелковых подразделений при наступлении на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) спешивается и занимает позиции, обеспечивающие выгодные условия для уничтожения во взаимодействии с танками контратакующего противника.
Подразделения поражают противника сосредоточенным огнем всех огневых средств на предельных дальностях. С подходом противника интенсивность огня возрастает, он доводится до наивысшего напряжения. Главные силы наступающих войск в это время продолжают развивать наступление в глубину обороны. При необходимости они наносят удар во фланг и тыл контратакующему противнику, во взаимодействии с соседями решительной атакой завершают его уничтожение и переходят в преследование.
При благоприятных условиях осуществляется окружение группировок противника. При этом сейчас, в отличие от прошлого, эта задача решается по-новому: в более короткие сроки, с небольшим перевесом в силах и средствах, с использованием высокой мобильности войск, их способности, наносить глубокие рассекающие удары, обеспечивающие быстрое рассечение и ликвидацию окруженных группировок.
В ходе наступления командир батальона должен проявлять постоянную заботу об обеспечении подразделений боеприпасами, горючим, продовольствием и другими материальными средствами, организовывать техническое обслуживание, эвакуацию и ремонт вооружения, боевой техники, обеспечить сбор раненых и больных, оказание им медицинской помощи и эвакуацию.
Девять месяцев продолжалась наша оборона под Оршей. С самого начала немцы заняли выгодные позиции на высотах по всему переднему краю армии, а пехота наша окопалась в болотистых низинах. Зимой еще ничего, а осенью и весной по пояс в воде. И в блиндажах была вода, и в ходах сообщения, а вокруг – чахлый березняк и болота. Однако несколько выгодных позиций и господствующих высот находилось и в наших руках.
Шесть месяцев на высоте близ Минского шоссе и деревни Старая Тухиня находился узел связи и наблюдательный пост старшего сержанта Корнилова. Приезжал я к нему по чувству долга, днем проверял состояние вооружения и аппаратуры, рассказывал о положении на фронтах и в тылу.
По вечерам читал «Ромео и Джульетту» и «Короля Лира», и много было ассоциаций по этому поводу. А вокруг падали мины, разрывались снаряды. Бойцы мои не обращали на них внимания, а я невольно вздрагивал и, так как это веселило их, задерживался на посту на двое-трое суток.
Однако в конце мая получил я приказ перейти на самый гребень высоты, где в пятистах метрах от немецкой линии обороны находился построенный за несколько ночей непробиваемый железобетонный наблюдательный пункт командующего артиллерией армии гвардии генерал-майора Семина. Кажется, в 1812 году на этой высоте перед одним из сражений сидел в кресле и смотрел в подзорную трубу Наполеон Бонапарт.
За две ночи рядом с дотом была выкопана квадратная яма глубиной метра четыре, в которую заехала полуторка с фанерным кузовом без окон, но с дверью и ступеньками до земли, в углу была буржуйка. Сверху машину для маскировки закидали до уровня земли еловыми ветками, внутри машины был довольно большой стол с коммутатором и телефонными аппаратами, кипами топографических карт, бумаг и рацией РСБ.
В распоряжении моем были один радист и один телефонист. К коммутатору моему были подведены все армейские линии связи, линии командующих корпусами, дивизиями и полками, отдельных артиллерийских бригад.
Но главная моя задача состояла в обслуживании наблюдательного пункта командующего артиллерией армии. В любой момент я мог соединить его с командармом, с политотделом, с любым из армейских подразделений.
От дверей моей машины шел глубиной четыре метра ход сообщения на наблюдательный пункт. Оттуда немцы в окопах были видны простым взглядом, а через подзорную трубу мощного увеличения можно было разглядеть лица и даже, при знании языка, читать их письма. Наблюдательный пункт, да и вся высота непрерывно обстреливались немецкой артиллерией и немецкими минометами, но дот был для них неуязвим, а в нашу замаскированную яму они просто не попадали.
То справа, то слева от нас разрывались снаряды, падали выпущенные из минометов болванки.
Справа от машины была выкопана яма-туалет. Выходить из машины было страшно. На самом деле кузов с фанерным потолком не представлял никакой преграды для мин и снарядов. Но такова психология – в освещенной двумя гильзами комнатке мы чувствовали себя в полной безопасности. Принимали и отправляли донесения и приказы. Я был в курсе всех переговоров и вообще всего, что происходило на территории армии. Но о главном я не написал.
Наблюдательный пункт был сооружен для коррекции и непосредственного управления воинскими частями, приготовленными для прорыва глубоко эшелонированной мощной линии обороны немцев на Борисовско-Оршинско-Минском направлении, то есть на пути наступления 3-го Белорусского фронта.
В мае все северные Прибалтийские и все южные Украинские фронты наступали. Украинские фронты приближались уже к границам Польши, Венгрии, Румынии.
Настроение было восторженное, уверенность в победе полная. По ночам бронетанковые и артиллерийские подразделения продвигались к линии обороны. Все линии связи были полностью загружены. Я в зашифрованном виде передавал приказы номеров первого, второго и т. п., получал ответы. Некогда было даже поесть. А днем, видимо чтобы немцы ни о чем не догадывались, линии были наполнены лирическими объяснениями, фантазиями и добродушным матом.
Мой голос знали все телефонистки армии, и я полушутя-полусерьезно объяснялся им в любви. То и дело эти разговоры носили общий характер. К ним подключались все, кто хотел. Вслед за телефонными поцелуями шли телефонные обнимания и телефонные совокупления со всеми деталями и всеобщими комментариями.
19 мая с утра началась артподготовка, снаряды разрывались в окопах и блиндажах немцев и сравнивали их с землей. С воздуха бомбили вражеские укрепления наши бомбардировщики.
Шестерками, одни за другими, пролетали наши штурмовики Ил-2. Но с ними творилось что-то странное: когда они долетали до третьей линии немецкой обороны, выполняли задание и пытались развернуться, ничего из этого не получалось, и один за другим они взрывались и падали.
Назад возвращался один из шести. Еще во время артподготовки мы вышли из своей подземной машины, стояли во весь рост на высоте и в недоумении наблюдали за этими катастрофическими воздушными атаками.
Через два часа пошла в атаку наша пехота. Две первые линии пробежали, а у третьей залегли и подняться на ноги уже не смогли. Заработали, и совсем не с тех позиций, которые бомбила наша авиация, немецкие пушки и пулеметы. Жуткий перекрестный огонь совершенно не пострадавших немецких пулеметных и минометных позиций. Появление немецких бомбардировщиков, гибель тысяч наших пехотинцев, пытавшихся вернуться на исходные позиции. А на линиях связи, на земле, в окопах, в штабных блиндажах и в воздухе, с гибнущих наших самолетов – отчаянный, путающий все указания мат перемешивался с нервными выкриками штабных телефонистов.
Наступление полностью провалилось. Множество тысяч убитых. Раненые бойцы ползком возвращались на исходные позиции. В контрнаступление немцы не пошли. Перед моими глазами догорали подбитые наши танки и самоходки.
Восемь ночей затем медленно двигались по Минскому шоссе и проселочным дорогам новые наши танковые и моторизованные пехотные дивизии.
29 мая наступление наших войск снова провалилось. Дальше третьей линии немецких укреплений не прошли и понесли огромные потери.
А через день перед строем читали нам адресованное командующему 3-м Белорусским фронтом маршалу Черняховскому страшное письмо Ставки Верховного главнокомандования о том, что 3-й Белорусский фронт не оправдал доверия партии и народа и обязан кровью искупить свою вину перед Родиной.
Я не военный теоретик, я сидел на наблюдательном пункте и видел своими глазами, какими смелыми и, видимо, умелыми были наши офицеры и солдаты, какой беззаветно храброй была пехота, как, невзирая на гибель своих друзей, вновь и вновь летели на штурм немецких объектов и безнадежно погибали наши штурмовики, и мне ясна была подлость формулировок Ставки. Мне ясно было, что разведка наша оказалась полностью несостоятельная, что авиация наша, погибая, уничтожала цели-обманки, что и количественно и качественно немецкая армия на этом направлении во много раз превосходила нас, что при всем этом и первый, и второй приказы о наступлении были преступны и что преступна была попытка Ставки Сталина свалить неудачи генералитета и разведки на замечательных наших пехотинцев, артиллеристов, танкистов, связистов, на мертвых и выживших героев.
Все это наверняка понимали и Сталин, и Жуков, и Черняховский, угробившие несколько десятков тысяч людей. Но при общем наступлении 1944 года наш оставшийся на важнейшем направлении фронт должен, обязан был переходить в наступление, ошибка должна была быть исправлена не смертью и кровью ослабленных подразделений, а стратегией и тактикой штаба Главнокомандующего.
И вот началось.
Каждую ночь по Минскому шоссе и по всем параллельным большим и малым трактам и проселочным дорогам из резерва Главнокомандования двигались свежие корпуса, дивизии и бригады, тысячи танков и самоходок.
На «Доджах» и «Студебеккерах», полученных по ленд-лизу, десятки тысяч вооруженных автоматами, пулеметами и минометами частей, колонны «катюш», бесконечные колонны машин с боеприпасами и продовольствием, хлебом, крупами, комбижиром и американской тушенкой. Непрерывный ночной гул днем замирал, и, сколько я ни смотрел, ничего вокруг не было видно.
Я сидел в закопанной в землю машине перед топографическими картами от Смоленска до Кёнигсберга. Принимая и передавая лаконичные, непонятные мне телефонограммы, я на этот раз чувствовал, что повторения того, что было, не будет, что впереди Берлин, Кёнигсберг.
Все было грандиозно.
Немецкие армии были окружены, а мы пошли вперед, вошли в Восточную Пруссию. Мы шли вперед, а несколько десятков тысяч окруженных нами и сдавшихся немецких солдат и офицеров прошли в Москве, по Красной площади.
Сняв сапоги и скатки,
Время играет в прятки.
Ноги его болят,
Плечи его немеют,
Боги его стареют,
То тот, то этот умрет.
Правое плечо вперед!
Левое плечо вперед!
В 1939 году после подписания пакта Молотова – Риббентропа, вдоль новой границы СССР в считаные месяцы была построена мощная линия обороны из дотов-крепостей, что-то вроде линии Маннергейма в Финляндии. При отступлении 1941 года линия эта сразу же оказалась в глубоком немецком тылу.
8 июля 1944 года я, верхом, мой новый ординарец Кузьмин, радист Хабибуллин и шесть бойцов моего взвода на двух повозках, нагруженных катушками кабеля, запасами патронов, гранат, продовольствия, телефонными аппаратами, рацией, вечером подъехали к забытому бетонному доту.
Вход, выход, внутри лабиринт с бойницами, а внутри лабиринта – спускающийся ниже уровня земли бетонированный почти зал.
Развернули радиостанцию, связались со штабом, сообщили о своем местонахождении, натащили сена, занесли все имущество, расстелили внутри дота плащ-палатки, завели внутрь лошадей.
У входа и выхода я поставил двух автоматчиков и заснул. Часа в три ночи разбудил меня ефрейтор Осипов и шепотом:
– Лейтенант! Не говори ни слова, вставай и быстро иди за мной.
Стремительно подхожу к одной из бойниц, смотрю – в доте все уже на ногах, с автоматами и гранатами, Хабибуллин у радиостанции. Звезды, луна и метрах в пятидесяти несколько десятков фигур с фонариками. Десант? Разведка?
Остановились и рассматривают дот. Немецкий язык. Видимо, идет спор – надо или не надо заходить в дот. Переговариваются и постепенно приближаются к нам, а нам уже ясно, что они проникли в наши тылы с целью захватить «языка».
Понимаю, что мы, связисты, не обученные по-настоящему рукопашному бою, можем швырнуть пять-шесть гранат, вывести из строя ну, максимум, человек десять. Двенадцать… Но их же много, и у них больше, чем у нас, гранат и владеют оружием и тактикой боя они во много раз лучше нас, связистов.
Нервы напряжены до предела.
Ближайшие наши воинские подразделения километрах в двух справа и километрах в полутора слева. Это десятый день нашего наступления. Немцы стремительно отходят без боя, и в процессе наступления наши части утратили связь друг с другом. Где-то артиллеристы и танкисты обогнали пехоту и минометчиков. Далеко не все выставили боевые охранения, спят там, где застала ночь, мертвым сном. Практически никакого переднего края нет, и есть уверенность, что немцы опять без боев отступили километров на пятьдесят.
И вот мы затаив дыхание ждем, а Хабибуллин уже связался по рации с нашим штабом и задает вопрос:
– Что нам делать?
Между тем спор между немецкими разведчиками прекращается.
В полной уверенности, что в доте никого нет, они цепочкой по одному идут на запад, в расположение наших разрозненных армейских частей.
Хабибуллин связывается по рации с соседями. Соседи принимают его сообщение, но почему-то на поиски немецкого десанта не выходят, а мы стоим у входа в наш дот со своими гранатами. За нами, справа и слева от нас и впереди нас – ни одного выстрела, но мы понимаем, как все не просто. Два часа, три часа, четыре часа. Немцы появляются внезапно в пять утра, останавливаются метрах в пятидесяти от нашего дота, спорят между собой – заходить или пройти мимо? Понимаю, что на этот раз уклониться от боя нам уже не удастся. Неужели это конец?
Вот тебе и безопасная война. Сколько мы продержимся? Полчаса, час?
И ведь никто ничего не узнает.
Спустя сорок лет я тонул в Черном море. Внезапно возникший ветер уносил меня от берега, вода вокруг меня кипела, волны перехлестывали, силы кончились, а по берегу бегала моя жена, и мне было жалко, что она видит, как я тону, и, когда надежд не осталось, какое-то странное безразличие овладело мной.
Да, не бесстрашие, не страх, а безразличие и чувство долга – быть по сему.
То ли времени до утра оставалось у них мало, то ли тоже не хотелось умирать, но немцы замолчали и тихо цепочкой по одному прошли мимо, метрах в тридцати от нашего дота. Как хорошо! Все впереди!
Не могу я про войну. / С каждым годом шире фронт, / полк ушел за горизонт, / и все меньше, меньше встреч, / и язык команд неловок, / и теряет глубину / захлебнувшаяся речь / в поисках формулировок.
Я шел по просеке лесной, / а женщина, что шла со мной, / была из пыли водяной, / из музыки поры военной. / Она была обыкновенной / девчонкой с улицы Басманной, / училась в школе на Покровке, / в трофейных сапогах, в шинели, / две ленточки на рукаве. / Над спящим лесом пули пели. / Мы говорили о Москве…
Трясущиеся губы, сердце бьется, / заноют зубы. Что такое страх? Мне выразить его не удается…
Общее наступление войск 3-го Белорусского фронта было назначено на утро 23 июня. Но еще 22 июня во второй половине дня передовые батальоны дивизий первого эшелона 5-й армии при поддержке мощного артиллерийского огня перешли в наступление с задачей захватить и закрепить за собой первую линию траншей противника и вскрыть тактическую глубину его обороны.
Внезапным и согласованным ударом передовые батальоны 5-й армии ворвались в первую траншею немцев, захватили ее и, развивая успех, углубились на 2–4 км. При этом на направлении главного удара армии передовые батальоны 72-го и 65-го стрелковых корпусов преодолели не только первую траншею со всеми заграждениями, расставленными перед ней, но и захватили вторую и третью траншеи. Противник контратаками пехотных групп, усиленных танками, пытался восстановить положение, но успеха не имел. Отбивая контратаки, передовые батальоны 5-й армии нанесли поражение 550-му штрафному батальону немцев, двум полкам 299-й пехотной дивизии, захватили пленных из состава этих частей и удержали захваченные позиции.
Одновременно передовые батальоны 11-й гвардейской армии, наступавшие по обеим сторонам минской автострады, ворвались в первые траншеи 78-й штурмовой немецкой пехотной дивизии в районах 1,5 км северо-восточнее Остров-Юрьева, Киреева, но, встретив сильное сопротивление и мощные, глубоко развитые заграждения, далее продвинуться не смогли. Передовые батальоны 31-й армии пытались ворваться в немецкие траншеи северо-западнее Горманы и южнее Загваздино, но под воздействием сильного артиллерийского и минометного огня, а также ожесточенных контратак принуждены были отойти в исходное положение.
Бой передовых батальонов показал, что наиболее слабой оборона немцев была на богушевском направлении. Все пять передовых батальонов 5-й армии, действовавших на фронте в 18 км, имели здесь успех. Она не только нарушили оборонительную систему противника на переднем крае, но, вклинившись в глубину, захватили на ряде участков плацдармы на южном берегу реки Суходровка, обеспечив выгодное исходное положение для наступления главных сил армии . Воспользовавшись успехом передовых батальонов, инженерные части 5-й армии в ночь на 23 июня построили три 60-тонных моста через реку Суходровка для переправы тяжелых танков и артиллерии и три моста для автотранспорта.
Эти бои имели и другое значение. Противник, приняв действия передовых батальонов за начало общего наступления наших войск, уже 22-го израсходовал часть своих ближайших резервов. В полосе 5-й армии он ввел в бой не только дивизионные резервы, но и части 14-й пехотной дивизии, составлявшей резерв 6-го армейского корпуса. В результате у него не оказалось на этом направлении поблизости достаточно свежих сил, которыми он мог бы парировать удар главных сил 5-й армии в последующие дни.
23 июня наступление наших войск началось мощной артиллерийской подготовкой по всему фронту. Артиллерийская подготовка проводилась по следующему графику: первые 5 минут - огневой налет всей артиллерии, затем 105 минут - период разрушения оборонительных сооружений противника прицельным огнем и контроль пристрелки, вслед за этим 20 минут - разрушение огнем орудий прямой наводки и, наконец, 40 минут - подавление переднего края и ближайшей глубины. Чтобы избежать разрыва между концом артиллерийской подготовки и началом атаки, огонь артиллерии только за три минуты перед атакой начал постепенно переноситься («сползать») на следующий рубеж, причем темп его не снижался. В то же время пехота была подведена непосредственно к разрывам своих снарядов.
В 5-й армии ввиду успешных действий передовых батальонов, захвативших накануне первые три линии траншей противника, артиллерийское наступление было в ночь на 23 июня перепланировано. Вследствие того что ряд огневых задач на переднем крае немецкой обороны отпал, первые два периода (артиллерийская подготовка и артиллерийская поддержка атаки пехоты) были перемещены в пространстве, огонь артиллерии был сдвинут в глубину обороны противника.
За 15 минут до начала атаки, несмотря на низкую облачность и начавшийся дождь, наша авиация восемнадцатью Ил-2 нанесла бомбардировочно-штурмовой удар по штабу 78-й штурмовой немецкой пехотной дивизии. В результате удара в районе расположения немецкого штаба начались пожары. Одновременно 160 бомбардировщиков Пе-2 подвергли бомбардировке район Остров-Юрьев, Ласырыцики, Заволны, Лобаны перед фронтом 11-й гвардейской армии. За 5 минут до атаки пехоты наши штурмовики начали действовать но уничтожению артиллерийских, минометных батарей противника и его живой силы на поле боя. Немецкие истребители группами в 4–6 машин пытались противодействовать ударам наших летчиков, но успеха не имели. Господство в воздухе прочно удерживалось 1-й воздушной армией.
В 9 часов началась атака пехоты и танков по всему фронту. 39-я армия генерал-лейтенанта Людникова, нанося главный удар левым флангом силами 5-го гвардейского стрелкового корпуса, прорвала оборону немцев на фронте Макарова, Языково протяжением в 6 км, сломала сопротивление оборонявшегося здесь 347-го полка 197-й пехотной дивизии немцев и форсировала реку Лучеса на участке южнее Перевоза. Развивая успех в западном направлении, 5-й гвардейский стрелковый корпус в первый же день наступления перерезал железную дорогу Витебск - Орша в районе станции Замосточье и к исходу дня вышел главными силами на рубеж Тишково, Ляденки, продвинувшись на глубину 12–13 км. В ходе боя корпус нанес поражение 197-й немецкой пехотной дивизии, отбросив остатки ее к озеру Скрыблово. Противник пытался остановить стремительное продвижение левофланговых частей 39-й армии силами подошедшего на помощь витебской группировке 280-го полка 95-й пехотной дивизии, но успеха не имел. Этот полк со значительными потерями также был отброшен на запад.
На 24 июня командующий 39-й армией приказал 5-му гвардейскому стрелковому корпусу к утру перерезать передовыми батальонами дорогу Витебск - Мошканы и быть готовым к наступлению в общем направлении на Островно. Для развития достигнутого успеха командующий армией решил ввести из-за флангов 5-го гвардейского стрелкового корпуса свой резерв с задачей нанести удар 164-й стрелковой дивизией в направлении на Добрино и 251-й стрелковой дивизией - на Задорожье.
Одновременно командиру 84-го стрелкового корпуса было приказано сосредоточить 158-ю стрелковую дивизию в районе Аржалова и в ночь на 24 июня нанести удар по Витебску с востока с задачей овладеть городом .
5-я армия генерал-лейтенанта Крылова наносила главный удар своим правым флангом силами 72-го и 65-го стрелковых корпусов. Развивая успех, достигнутый накануне передовыми батальонами, войска армии прорвали оборону немцев на участке Кузменцы, Осетки, нанесли поражение противостоящим частям 299-й пехотной дивизии противника и к исходу дня вышли на фронт Савченки, Понизовье, Бол. Калиновичи, Бостон, продвинувшись на глубину до 10 км и расширив прорыв по фронту до 35 км. На правом фланге части армии форсировали Лучесу и перерезали западнее Савченки железную дорогу Витебск - Орша. Одновременно передовые батальоны армии, действовавшие в Центре, также форсировали Лучесу на нескольких участках.
11-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Галицкого взломала оборону противника на участках озеро Зеленское, Остров-Юрьев, Кириева и, преодолевая упорное сопротивление немцев, продвинулась на глубину от 2 до 8 км. Наибольшего успеха достигли правофланговые части армии южнее озеро Зеленское. Здесь батальоны 152-го укрепленного района и 11-й гвардейской стрелковой дивизии, искусно действуя в лесисто-болотистой местности, значительно продвинулись вперед. В то же время на левом фланге, в полосе Минской автострады, наступление наших войск сильно задерживалось упорным сопротивлением противника и глубоко эшелонированной обороной .
31-я армия генерал-лейтенанта Глаголева вклинилась своим правым флангом на глубину до 3 км и к исходу дня вела бой с контратакующими пехотой и танками противника юго-западнее Кириева, северо-восточное Загваздино. Против наступающих частей 31-й армии немцы выдвинули из резерва до двух полков пехоты с танками и артиллерией (из состава 260-й пехотной и 286-й охранной дивизий).
Действия нашей авиации затруднялись неблагоприятными метеорологическими условиями. Но все же она блокировала аэродромы противника, провела 28 воздушных боев, в результате которых было сбито 15 немецких самолетов. Во второй половине дня был произведен массированный бомбардировочный удар 162 бомбардировщиками Пе-2 по расположению противника в полосе наступления 11-й гвардейской армии. Всего за день боя авиация фронта произвела 1769 самолето-вылетов, полностью удерживая за собой господство в воздухе.
Прорыв 11-й гвардейской армией 3-го Белорусского фронта обороны противника северо-западнее Орши 23–24 июня
В итоге первого дня наступления наибольший успех был достигнут на правом крыле фронта. Здесь войска 39-й и 5-й армий прорвали оборону немцев на глубину до 10–13 км и расширили прорыв до 30 км.
Войска, действовавшие в центре и на левом крыле, натолкнувшись на более упорное сопротивление и глубоко развитые оборонительные сооружения, вклинились в оборону противника на отдельных участках на фронте до 20 км, но полностью преодолеть ее не смогли .
24 июня 39-я армия, развивая достигнутый успех, своим левым флангом вышла с боями в район Островно, перерезав пути отхода немцам из Витебска на юго-запад. В то же время части 84-го стрелкового корпуса, действовавшие на правом фланге, подошли непосредственно к восточной окраине города. Противник, стремясь не допустить окружения, оказывал упорное сопротивление на подступах к Витебску и юго-западнее его.
5-я армия, преодолевая сопротивление остатков 299-й, 250-й и вновь введенных противником частей 95-й и 14-й пехотных дивизий, продвинулась на 10–14 км. В 21 час ее 144-я и 215-я стрелковые дивизии, выдвинутые из второго эшелона, после массированного налета 270 наших бомбардировщиков и штурмовиков стремительным ударом с севера прорвали три линии траншей и штурмом овладели Богушевском, захватив при этом 24 немецких орудия. Продолжая теснить разбитого противника, части армии к исходу дня вели бой на рубеже Госмира, Замощье, Чудня, западнее и юго-западнее Богушевска, озеро Серокоротня.
11-я гвардейская армия, используя успех, достигнутый накануне ее правым флангом, овладела во взаимодействии с левофланговыми частями 5-й армии районным центром Бобиновичи и разгромила в лесах южнее этого населенного пункта 480-й полк 260-й пехотной дивизии, 215-й полк и штурмовой батальон 78-й штурмовой пехотной дивизии.
К исходу дня войска 11-й гвардейской армии расширили прорыв до 30 км и продвинулись на правом фланге на глубину 14 км, выйдя на фронт Лапицкие, Левадничи, Орехи-Выдрица. На левом фланге наступление развивалось менее успешно. Здесь части армии продвинулись всего на 4–6 км, достигнув рубежа севернее Шалашино и станции Осиповка (на железной дороге Красное - Орша) .
Ввиду того, что продвижение левофланговых частей 11-й гвардейской армии развивалось медленно и в течение 24 июня условий для ввода в прорыв подвижных соединений здесь создано не было, 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус в ночь на 25 июня был перегруппирован к северу от Минской автострады .
31-я армии, продолжая отбивать ожесточенные контратаки противника, продвинулась незначительно.
В связи с успехом, достигнутым 5-й армией, в полосе ее наступления была введена конно-механизированная группа, которая уже вечером 24 июня пересекла железную дорогу Витебск - Орша на участке Лучковское, Богушевск, выбросив передовые отряды на линию Мошканы, Чудня, западнее Богушевска.
В течение 25 июня войска фронта продолжали успешно развивать наступление. Левофланговые соединения 39-й армии вышли на южный берег Западной Двины в районе Дорогокупово, Гнездиловичи и соединились с войсками 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, замкнув кольцо окружения витебской группировки немцев. Одновременно части, действовавшие в центре армии, решительной атакой овладели восточным сектором и центром Витебска. Противник, пытаясь прорваться на запад и юго-запад, предпринял до 18 контратак против 5-го гвардейского стрелкового корпуса, но все его атаки были отбиты.
Конно-механизированная группа, стремительно продвигаясь в западном направлении, овладела городом Сенно, разгромив при этом частями 3-го гвардейского кавалерийского корпуса два полка 299-й пехотной дивизии в лесах северо-восточнее Алексиничей. Передовые отряды конно-механизированной группы перерезали железную дорогу Лепель - Орша в районе Уздорников.
Войска 5-й армии, развивая успех конно-механизированной группы, за 25 июня продвинулись на 20 км. Уничтожая мелкие, разрозненные группы противника, части армии освободили свыше 100 населенных пунктов и к исходу дня вышли на фронт Лугиновичи, озеро Березовское, Алексиничи.
В то же время 11-я гвардейская армия прорвала два промежуточных укрепленных рубежа и силами 16-го и 8-го гвардейских стрелковых корпусов вышла на рубеж Моньково, Муханово, имея 36-й гвардейский стрелковый корпус за левым флангом на рубеже Коробище, Хлюстино.
2-й гвардейский Тацинский танковый корпус, сосредоточившийся к утру 25 июня в районе Стар. Холмы, в первой половине дня был введен в прорыв в направлении Клюковка с задачей перерезать железную дорогу Орша - Лепель и выйти в район Репохово, Сальники, Задровье (юго-восточнее Сальники), перехватив Минскую автостраду северо-западнее Орши.
31-я армия правофланговыми корпусами прорвала оборону немцев на северном берегу Днепра и, обойди главными силами с севера сильно укрепленный узел сопротивления Дубровно, достигла дороги, идущей из Дубровно в Высокое .
Ввиду крупного успеха, достигнутого на фронте 5-й армии (где наши войска, прорвав все оборонительные рубежи противника, вышли на оперативный простор), 5-ю гвардейскую танковую армию по указанию представителя Ставки Верховного Главнокомандования маршала Василевского решено было использовать на богушевском направлении.
Поступив в подчинение командующего 3-м Белорусским фронтом с 20 часов 24 июня, 5-я гвардейская танковая армия к утру 25 июня сосредоточилась западнее Лиозно (в районе Погостище, Крынки, Добромысль) и в 14 часов начала движение в общем направлении на Богушевск, выдвинув передовые отряды в район Богушевска и севернее.
Таким образом, в результате первых трех дней наступления войска 3-го Белорусского фронта полностью прорвали оборону немцев от Западной Двины до Днепра на протяжении 100 км и продвинулись в глубину от 30 до 50 км. Быстрым продвижением на центральном направлении войска фронта разобщили витебскую и оршанскую группировки противника и своим правым крылом, во взаимодействии с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта, окружили в районе Витебска пять немецких дивизий из состава 9, 53 и 6-го армейских корпусов. В ходе наступления наши войска разбили и нанесли значительные потери семи немецким дивизиям (197-й, 95-й, 299-й, 256-й, 260-й, 78-й пехотным и 25-й моторизованной дивизиям), уничтожив при этом более 16 тыс. солдат и офицеров противника.
Авиация 1-й воздушной армии все время прочно удерживала господство в воздухе и, обеспечивая действия наземных войск, за первые три дня наступления только на штурмовку и бомбардировку противника произвела более 2500 самолето-вылетов, уничтожив при этом в воздушных боях 52 немецких самолета. За это же время было зарегистрировано не более 65 самолето-пролетов вражеской авиации.
Выбитый с основного оборонительного рубежа и потерпевший поражение на витебском и богушевском направлениях, противник начал отводить тылы 3-й танковой и 4-й армий на рубеж реки Березина.
В то же время, чтобы подкрепить разбитые части и задержать продвижение наших войск на промежуточных рубежах, немецкое командование начало вводить в бой оперативные резервы. Особо упорное сопротивление противник продолжал оказывать на оршанском направлении. Стремясь удержать в своих руках основную магистраль - Минскую автостраду - и обеспечить фланг группировки своих войск, противостоящей 2-му белорусскому фронту, немцы ввели на этом направлении 260-ю пехотную дивизию из района Копысь и 286-ю охранную дивизию из района Толочин.
способ наступат. действий, направленных на создание бреши (брешей) в подготовленных оборонит. рубежах (полосах, позициях), занятых войсками пр-ка, для последующего развития наступления в глубину и манёвра в стороны флангов. Сущность П.о. заключается во взломе обороны пр-ка огнём и ударами всех видов оружия и решит. продвижением наступающих войск на избранных направлениях на всю глубину оборонит. рубежа (полосы, позиции) с одноврем. расширением участка (участков) прорыва. Необходимость П.о. впервые возникла в русско-япон. войне 1904 - 05 и особенно с образованием сплошных фронтов в 1-й мир. войне. Наиболее полно проблема П.о. и его развития до операт. масштабов была решена во 2-й мир. войне. В годы Вел. Отеч. войны П.о. в операции осуществлялся ударными гр-ками фронта на одном, двух, а иногда и трёх участках; армией, как правило, - на одном участке. Ширина участка прорыва составляла во фронте 20 - 30 км (7 - 12 % ширины полосы наступления); в армии - 6 - 14 км; в корпусе - 4 - 6 км; в дивизии - 2 - 2,5 км. Для взламывания обороны пр-ка и обеспечения её прорыва на всю такт. глубину организовывалось авиационное наступление и артиллерийское наступление. Для наращивания усилий при прорыве такт. зоны обороны и расширения брешей в стороны флангов вводились вторые эшелоны полков, дивизий и корпусов, а иногда и армий. На участках прорыва создавалось решит. превосходство над пр-ком в силах и средствах, чем достигались его надёжное огневое поражение, нанесение сильного первонач. удара, своеврем. наращивание усилий и развитие успеха. С сер. 50-х гг. 20 в. с принятием на вооружение ядерного оружия, дальнейшим развитием др. средств вооруж. борьбы взлом подготовленной обороны пр-ка предполагалось осуществлять нанесением ядерных ударов на всю глубину её построения и решит. наступлением мотострелк. и танк. со-ед. по отдельным направлениям с широким применением охватов и обходов, в т.ч. и по воздуху. Сосредоточение крупных гр-к войск на узких участках фронта для создания многократного превосходства над пр-ком считалось недопустимым. Совр. теория П.о. с применением обычных средств поражения предусматривает использование разнообразных способов П.о. с решит. массированием сил и средств на избранных участках прорыва, обеспечивающим превосходство над пр-ком, надёжное огневое поражение пр-ка на участках прорыва и прилегающих флангах на всю глубину построения обороны, широкое применение возд. десантов и др. высокоподвижных войск для одноврем. развёртывания боевых действий на всю глубину операт. построения войск пр-ка и своеврем. и быстрое наращивание усилий на направлении главного удара с целью развития такт. прорыва в оперативный.
В иностр. армиях П.о. считается одной из осн. форм манёвра в наступлении (в армии США - прорыв, в армии ФРГ - фронтальный удар, в армии Великобритании - фрон-тальный прорыв). Он обычно включает три этапа: взламывание обороны пр-ка (создание брешей); расширение участков прорыва, обход и уничтожение пр-ка; захват и удержание важных объектов в глубине.