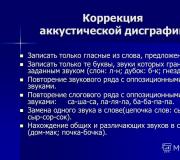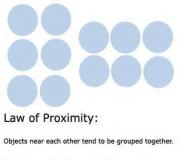Толкование послания к римлянам 7 брайта. Русский синодальный перевод
. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
Оставив нравственное учение, возвращается к догматическому и доказывает, что слушатели его не должны уже оставаться под законом. Закон, говорит, как и вам известно, имеет власть над человеком, доколе человек остается в живых; ибо на мертвых он не простирается. Так и вы, говорит, умерли для закона, и потому он не имел уже, наконец, власти над вами. Так намекает на это в начале, а далее говорит об этом с иной стороны. Именно: когда умрет муж, то жена имеет власть сочетаться браком с другим. Здесь мужу уподобил закон, а жене – слушателей своих. Затем надлежало сказать: следовательно, братия, закон не имеет власти над вами: ибо он умер. Но апостол не сказал так, чтобы не огорчить иудеев, но представляет умершую жену, то есть самых иудеев, которые потому пользуются двоякой свободой. Ибо если жена свободна от власти закона, когда умрет муж ее; то тем паче свободна она, когда умерла сама.
. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
Если вы, говорит, умерли, то не состоите под законом. Ибо если жена по смерти мужа не подлежит ответственности, то тем паче свободна она от ига закона, когда умерла сама. Заметь, как мудро доказывает, что сам закон хочет, чтобы оставили его. Итак, и вы освободились от закона телом Христа, распятого за нас. Ибо тело для того и умерщвлено, чтобы вы умерли для закона и были под властью другого, за вас умершего и потом воскресшего. Ибо закон не живет уже после того, как умер, а Христос живет и после того, как умер, так что вы не имеете власти отступать от Него живущего. А какая польза от этого? «Да приносим плод Богу» , то есть чтобы от того брака, в котором сочетались мы с Христом, рождать нам Богу детей, то есть добрые дела.
. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти.
Доказывая, что закон нисколько не помогает нам в избежании плотских страстей, а только показывает их, говорит: когда мы были в плотской жизни и в худых делах, то в членах наших действовали страсти греховные, обнаруженные законом и узнаваемые чрез закон. Не сказал, что члены производят пороки, дабы не дать места обвинению плоти. Ибо душа есть как бы музыкант, а члены – гусли. Если музыкант играет дурно, то и гусли издают дурные звуки. Итак, когда мы состояли под законом и не могли избежать страстей, то рождали смерти дурные дела.
. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
Чтобы не огорчить иудеев, не сказал: упразднился закон, но: «мы освободились от него» , то есть отрешились, освободились, умерли и стали мертвы и неподвижны по отношению к той привязи, на которой держали нас. А привязь эта есть грех; ибо на нем держались мы, как на цепи. Умерли же мы для греха, чтобы «служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» . В древности добродетель была трудна, потому что получил в смертном теле своем множество природных недостатков; а теперь благодатью Христовой в крещении природа наша получила помощь от Духа, Который соделал нас новыми и юными и освободил от ветхости и немощи буквы. Поэтому во время закона девство было редкостью, а теперь в Церкви тысячи благочестиво ведущих девственную жизнь. То же самое следует сказать и о презрении к смерти.
. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай.
Апостол сказал многое, что могло показаться обвинением закона: именно: «грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (), и: «закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление» () и еще: «ветхой букве» (). Посему, чтобы устранить такое подозрение, вводит возражение в виде вопроса и говорит: что же скажем о законе? То ли, что он есть грех? Потом решает это возражение, сначала отвечая отрицательно, как обычно говорит о крайне нелепом, а затем предлагает доказательства. Закон, говорит, не есть грех, но указатель греха; ибо я не знал бы пожелания, «если бы закон не говорил: не пожелай» . Как же, наконец, случился потоп? Как сожжен Содом, если до закона не знали, что пожелание есть зло? Знали и тогда, но тогда пожелание не было усилено и потому познавали его не с такой обстоятельностью, с какой стали разуметь его, когда дан закон. Первоначально знали пожелание по одному естественному закону, но впоследствии и по писанному, почему и стало оно поводом к большему наказанию, а это произошло не от научений закона, но от беспечности невнимающих предписаниям закона, что показывает Апостол и далее.
. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона мертв.
Не сказал, что закон «произвел пожелание» , но: "грех" (который, по Златоусту, есть беспечная и испорченная воля), и диавол (ибо его некоторые разумели под грехом), или склонность к удовольствию и стремление к худшему, самое научение закона употребили во зло. Несправедливо было бы обвинять врача, который больному горячкой, готовому непрестанно пить воду, не дает пить и тем усиливает в нем желание пить; ибо дело врача – запретить, а не пить должен сам больной. Так и закон имел в виду научением отвлечь человека от похоти, но грехолюбивая воля усилила пожелание и произвела не одно, но всякое пожелание, с напряжением делая зло. Ибо когда кому-нибудь воспрещают что-либо, тогда он более неистовствует. Итак, тогда обнаружится, когда закон был нарушен. «Ибо без закона мертв» , то есть не почитается существующим. Когда же есть закон, предписывающий должное, то живет, то есть существует и представляется грехом тем, которые преступают закон, грешат сознательно.
. Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то ожил,
А я умер.
До Моисея, говорит, я жил без закона, почему и подвергался не строгому осуждению (здесь в лице себя разумеет природу человеческую); но когда пришла заповедь, то обнаружилось, что есть грех: ибо хотя люди грешили и прежде, однако не сознавали того. А в этом-то и благо закона, что он сделал людей сознающими, что они грешат. Слова "я умер" понимай двояко, – и так: «согрешил», и так: «сделался повинен большему наказанию», в чем виновен не закон, но тот, кто внемлет ему. Представь, например: кто-нибудь болен и не сознает, что он болен; потом приходит к больному врач и открывает ему, что он болен, и что ему следует воздерживаться от такой-то пищи, как усиливающей болезнь; больной не послушался врача и умер.
. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти,
. потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
Не сказал: заповедь сделалась для меня , но: «послужила» , объясняя тем необыкновенность и странность такой несообразности. Цель заповеди – вести к жизни, для чего и дана она. Если же произошла из того смерть, то виной этого не заповедь: ибо меня обольстил и умертвил чрез заповедь грех, то есть стремление к худшему и испорченное и грехолюбивое сердце, а лучше сказать – удовольствие. Ибо если бы не было заповеди, показывающей грех, то я и совершающим не почитался бы, и не был бы повинен наказанию; ибо слово "умертвил" следует понимать о том и другом, и о грехе и о наказании, как и выше сказано о слове "я умер" .
Вся сущность мысли апостола такая: когда нет закона, то не вменяется; когда же пришел закон и нарушен, то грех обнаружился и ожил, так что чрез нарушение заповеди грех, то есть обнаружение и состояние греха выступает, тогда как прежде он и не существовал и не вменялся, потому что и закона не было. Поэтому закон сам по себе не был причиной греха; но он не мог и освободить от него, так что вследствие этой немощи закона мы возымели нужду в благодати.
. Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
Здесь весьма явно заградил уста маркионитов, манихеев, симониан и всех осуждающих ; ибо ясно провозглашает, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Различает же закон от заповеди, как общее от частного; ибо в законе одно составляет догматы, а другое заповеди. Итак, и догматы закона святы, и заповеди касательно деятельности святы и праведны и добры. Следовательно, они суть законоположения благого и праведного Бога, хотя упомянутые еретики и богохульствуют, что закон происходит от злого бога.
. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть.
Закон, говорит, не сделался для меня , но умертвил меня грех, чтобы стало ясно, какое зло есть грех, и что он, несмотря на врачевание законом, стал хуже. А под грехом, как сказали мы выше, разумей и склонную к удовольствию волю, и стремление к греху, и потому диавола, и самую деятельность, увлекаемую удовольствием. Благодарение Христу, освободившему нас от такого зла!
Так что становится крайне грешен посредством заповеди.
Какая пагуба есть грех, это открылось чрез заповедь; ибо воспользовался заповедью к смерти. Так и о болезни, когда она чрез врачебные пособия приходит в худшее состояние, можно сказать, что она обнаружила злокачественность свою посредством врачебного искусства, хотя не получила от него никакой пользы.
. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
Апостол сказал, что открылся чрез заповедь. Посему, дабы ты не подумал, что виной греха закон, произносит общий приговор и говорит: «ибо мы знаем, что закон духовен» . Всем, говорит, известно и всеми признано, что закон отнюдь не есть причина греха, но что он "духовен" , то есть – наставник добродетели и враг порока. От чего же произошел при столь дивном наставнике? От нерадения и немощи учеников. Ибо "я" , говорит, "плотян" , что значит: все естество человеческое, как до дарования закона, так и во время закона, наполнено было множеством страстей; ибо вследствие преступления Адамова мы не только сделались смертными, но природа наша получила страсти, предалась греху и стала рабой, так что и головы не могла поднять.
. Ибо не понимаю, что делаю.
Здесь говорит не о совершенном неведении, ибо если бы грешили в неведении, то за что же были бы наказываемы? Что же говорит? Пребываю во тьме, увлекаюсь, не знаю, как увлекает меня грех. Посему, когда говорит: «не понимаю» , то указывает не на незнание того, что должно делать, но на опасности, ковы, обольщение, увлечение. Все это говорит о людях, живших до пришествия Христа во плоти, хотя представил самого себя.
Потому что не то делаю, что хочу.
Так выражается вместо следующего: ибо тогдашние люди не то делали, что хотели. Выражаясь же так, не внушает необходимости или принуждения. Но что говорит? Вот что: чего не одобряли, чего не принимали, чего не любили, то делали. Ибо далее присовокупляет:
а что ненавижу, то делаю.
Видишь ли, что не вводит ни принуждения, ни необходимости? Ибо в противном случае присовокупил бы: к чему вынуждаюсь необходимостью, то делаю. Но это не сказал, а говорит: «что ненавижу» . Как же произошло зло? По увлечению, по немощи, которую имели от преступления Адамова. Эту-то немощь и не мог уврачевать закон, хотя и говорил, что должно делать; ее уврачевал, пришедши, Христос. Итак, здесь во всем, что сказал и что намерен сказать, цель у апостола та, чтобы доказать, что естество человеческое пришло в неисцелимое состояние и что его никто не исцелит, кроме Христа.
. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр.
Что закон добр, говорит, видно из того, что я по природе знаю, что должно делать, и что разум у меня не поврежден, хотя я и предаюсь пороку.
. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе.
Не сказал, что плоть делает это, но "грех" , то есть увлекающее меня мучительство греха. Что же болтают вооружающиеся против плоти и исключающие ее из числа творений Божиих? Они предъявляют: ведь апостол говорит: «не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» . Выслушай, в каком отношении высказал он это. Человек состоит из двух частей: души и плоти; из них первая, то есть душа, властвует всем, а плоть есть раба. Посему выражение: «не живет в плоти моей доброе» значит: не состоит во власти плоти, но во власти души; что изберет душа, то и делает плоть. Все равно, как если кто скажет, что стройный звук не в гуслях, но в гуслисте, тот не унижает гуслей, но показывает превосходство художника пред инструментом.
Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
Словом "не нахожу" обозначил нападение и козни греха; ибо слагает вину и с существа души и с существа плоти и все приписывает порочной деятельности и воле. Когда говорит: «которого не хочу» , то слагает вину с души, а когда говорит: «уже не я делаю» , то слагает вину с тела. Кто же делает зло? Грех, который, по словам , есть порочная и грехолюбивая воля. А эта воля не есть создание Божие, но наше движение. Воля сама по себе есть творение Божие; но воля, направленная к известной цели, есть нечто наше собственное, действие нашего произволения. Выше сказано, что такое грех, то есть мучительство греха, увлекающее ум наш чрез удовольствие.
. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Выражение неясное; в нем чего-то недостает. Надлежало бы сказать: итак, когда хочу делать доброе, нахожу себе в законе защитника, однако не делаю доброго, потому что прилежит мне зло. Смысл настоящего места такой: познание добра из начала вложено в меня; нахожу также, что и закон защищает оное, и хвалит, и я желаю делать добро, но вовлекаюсь какой-то другой силой, и мне прилежит зло, то есть действие зла не уничтожается во мне. Впрочем, святой Иоанн Златоуст , истолковав настоящее место как неполное, внушает, что его можно понимать и иначе, именно так: нахожу, что закон дан не другому кому, но мне, желающему делать доброе; ибо закон есть закон только для желающих делать доброе, как желающий того же, чего желает и он. Это уяснится из последующего.
. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
. но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Я знал добро и до закона, и когда нахожу оное изображенным в письменах, хвалю закон и соглашаюсь с ним «по внутреннему человеку» , или по уму своему. «Но вижу иной закон» , то есть грех, который назвал законом потому, что обольщаемые им покорствуют ему и боятся покинуть его, как закон, который должен быть исполнен. Закон этот противоборствует «закону ума моего» , то есть закону естественному (выше назвал его внутренним человеком, а теперь ясно называет его умом), и одерживает верх, даже делает меня пленником, побеждая и естественный, и письменный закон. Каким образом делает пленником? «Законом греховным» , то есть силой, мучительством. Не сказал: влечением плоти, или природой плоти, но «законом греховным» , господствующим в членах моих. Значит, в этом не виновата плоть. Если разбойник займет царский дворец, то дворец нимало не виновен в том. Так и здесь: если в членах моих обитает грех, то от этого плоть не зла. Некоторые подмечают здесь четыре закона: один – Божий, научавший нас приличному, другой – противоборствующий, приходящий к нам по действию диавола, третий – закон ума, то есть естественный, последний – находящийся в членах наших, то есть грехолюбивое произволение и склонность к злу, делающие нас посредством привычки нечувствительными, ожесточенными сердцем.
. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
Закон естественный стал недостаточен, закон писанный оказался бессильным, тот и другой победило мучительство греха. Откуда же будем надеяться спасения? «Кто избавит меня от сего тела смерти?» , то есть повинного смерти. Ибо тело, сделавшись подверженным страданию вследствие преступления, стало от этого и сподручным греху. Скажет кто-нибудь: если тело было сподручно греху, то за что были наказываемы грешники до пришествия Христова? За то, что им даны такие заповеди, которые они могли исполнить и находясь во власти греха.
. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.
Поставленный в безвыходное положение и не нашедший другого спасителя, по необходимости нашел Спасителем Христа. Поэтому и благодарит "Бога" Отца «Иисусом Христом, Господом нашим» , то есть причиной благодарения, Христом. Он, говорит, исполнил то, чего не мог сделать закон: Он избавил меня от немощи плоти, укрепив ее, так что она не состоит уже под мучительством греха, но как чрез преступление сделавшись смертной, стала удобопреодолимой для греха, так, чрез послушание Распятого и Воскресшего, получив залог нетления, мужественно противится греху.
Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.
Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
Оставив нравственное учение, возвращается к догматическому и доказывает, что слушатели его не должны уже оставаться под законом. Закон, говорит, как и вам известно, имеет власть над человеком, доколе человек остается в живых; ибо на мертвых он не простирается. Так и вы, говорит, умерли для закона, и потому он не имел уже, наконец, власти над вами. Так намекает на это в начале, а далее говорит об этом с иной стороны. Именно: когда умрет муж, то жена имеет власть сочетаться браком с другим. Здесь мужу уподобил закон, а жене - слушателей своих. Затем надлежало сказать: следовательно, братия, закон не имеет власти над вами: ибо он умер. Но апостол не сказал так, чтобы не огорчить иудеев, но представляет умершую жену, то есть самых иудеев, которые потому пользуются двоякой свободой. Ибо если жена свободна от власти закона, когда умрет муж ее; то тем паче свободна она, когда умерла сама.
Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
Если вы, говорит, умерли, то не состоите под законом. Ибо если жена по смерти мужа не подлежит ответственности, то тем паче свободна она от ига закона, когда умерла сама. Заметь, как мудро доказывает, что сам закон хочет, чтобы оставили его. Итак, и вы освободились от закона телом Христа, распятого за нас. Ибо тело для того и умерщвлено, чтобы вы умерли для закона и были под властью Другого, за вас умершего и потом воскресшего. Ибо закон не живет уже после того, как умер, а Христос живет и после того, как умер, так что вы не имеете власти отступать от Него живущего. А какая польза от этого? Да приносим плод Богу , то есть чтобы от того брака, в котором сочетались мы с Христом, рождать нам Богу детей, то есть добрые дела.
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти.
Доказывая, что закон нисколько не помогает нам в избежании плотских страстей, а только показывает их, говорит: когда мы были в плотской жизни и в худых делах, то в членах наших действовали страсти греховные, обнаруженные законом и узнаваемые чрез закон. Не сказал, что члены производят пороки, дабы не дать места обвинению плоти. Ибо душа есть как бы музыкант, а члены - гусли. Если музыкант играет дурно, то и гусли издают дурные звуки. Итак, когда мы состояли под законом и не могли избежать страстей, то рождали смерти дурные дела.
Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
Чтобы не огорчить иудеев, не сказал: упразднился закон, но: мы освободились от него , то есть отрешились, освободились, умерли и стали мертвы и неподвижны по отношению к той привязи, на которой держали нас. А привязь эта есть грех; ибо на нем держались мы, как на цепи. Умерли же мы для греха, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве . В древности добродетель была трудна, потому что Адам получил в смертном теле своем множество природных недостатков; а теперь благодатью Христовой в крещении природа наша получила помощь от Духа, Который соделал нас новыми и юными и освободил от ветхости и немощи буквы. Поэтому во время закона девство было редкостью, а теперь в Церкви тысячи благочестиво ведущих девственную жизнь. То же самое следует сказать и о презрении к смерти.
Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай.
Апостол сказал многое, что могло показаться обвинением закона: именно: грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью (Рим.6:14), и: закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление (Рим.5:20) и еще: ветхой букве (Рим.7:6). Посему, чтобы устранить такое подозрение, вводит возражение в виде вопроса и говорит: что же скажем о законе? То ли, что он есть грех? Потом решает это возражение, сначала отвечая отрицательно, как обычно говорит о крайне нелепом, а затем предлагает доказательства. Закон, говорит, не есть грех, но указатель греха; ибо я не знал бы пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай . Как же, наконец, случился потоп? Как сожжен Содом, если до закона не знали, что пожелание есть зло? Знали и тогда, но тогда пожелание не было усилено и потому познавали его не с такой обстоятельностью, с какой стали разуметь его, когда дан закон. Первоначально знали пожелание по одному естественному закону, но впоследствии и по писанному, почему и стало оно поводом к большему наказанию, а это произошло не от научений закона, но от беспечности невнимающих предписаниям закона, что показывает Апостол и далее.
Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв.
Не сказал, что закон произвел пожелание , но: грех (который, по Златоусту, есть беспечная и испорченная воля), и диавол (ибо его некоторые разумели под грехом), или склонность к удовольствию и стремление к худшему, самое научение закона употребили во зло. Несправедливо было бы обвинять врача, который больному горячкой, готовому непрестанно пить воду, не дает пить и тем усиливает в нем желание пить; ибо дело врача - запретить, а не пить должен сам больной. Так и закон имел в виду научением отвлечь человека от похоти, но грехолюбивая воля усилила пожелание и произвела не одно, но всякое пожелание, с напряжением делая зло. Ибо когда кому-нибудь воспрещают что-либо, тогда он более неистовствует. Итак, грех тогда обнаружится, когда закон был нарушен. Ибо без закона грех мертв , то есть не почитается существующим. Когда же есть закон, предписывающий должное, то грех живет, то есть существует и представляется грехом тем, которые преступают закон, грешат сознательно.
Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер.
До Моисея, говорит, я жил без закона, почему и подвергался не строгому осуждению (здесь в лице себя разумеет природу человеческую); но когда пришла заповедь, то обнаружилось, что грех есть грех: ибо хотя люди грешили и прежде, однако не сознавали того. А в этом-то и благо закона, что он сделал людей сознающими, что они грешат. Слова я умер понимай двояко, - и так: "согрешил", и так: "сделался повинен большему наказанию", в чем виновен не закон, но тот, кто внемлет ему. Представь, например: кто-нибудь болен и не сознает, что он болен; потом приходит к больному врач и открывает ему, что он болен, и что ему следует воздерживаться от такой-то пищи, как усиливающей болезнь; больной не послушался врача и умер.
И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
Не сказал: заповедь сделалась для меня смертью, но: послужила , объясняя тем необыкновенность и странность такой несообразности. Цель заповеди - вести к жизни, для чего и дана она. Если же произошла из того смерть, то виной этого не заповедь: ибо меня обольстил и умертвил чрез заповедь грех, то есть стремление к худшему и испорченное и грехолюбивое сердце, а лучше сказать - удовольствие. Ибо если бы не было заповеди, показывающей грех, то я и совершающим грех не почитался бы, и не был бы повинен наказанию; ибо слово умертвил следует понимать о том и другом, и о грехе и о наказании, как и выше сказано о слове я умер . Вся сущность мысли апостола такая: когда нет закона, то грех не вменяется; когда же пришел закон и нарушен, то грех обнаружился и ожил, так что чрез нарушение заповеди грех, то есть обнаружение и состояние греха выступает, тогда как прежде он и не существовал и не вменялся, потому что и закона не было. Поэтому закон сам по себе не был причиной греха; но он не мог и освободить от него, так что вследствие этой немощи закона мы возымели нужду в благодати.
Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
Здесь весьма явно заградил уста маркионитов, манихеев, симониан и всех осуждающих Ветхий Завет; ибо ясно провозглашает, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Различает же закон от заповеди, как общее от частного; ибо в законе одно составляет догматы, а другое заповеди. Итак, и догматы закона святы, и заповеди касательно деятельности святы и праведны и добры. Следовательно, они суть законоположения благого и праведного Бога, хотя упомянутые еретики и богохульствуют, что закон происходит от злого бога.
Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть.
Закон, говорит, не сделался для меня смертью, но умертвил меня грех, чтобы стало ясно, какое зло есть грех, и что он, несмотря на врачевание законом, стал хуже. А под грехом, как сказали мы выше, разумей и склонную к удовольствию волю, и стремление к греху, и потому диавола, и самую деятельность, увлекаемую удовольствием. Благодарение Христу, освободившему нас от такого зла!
Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
Какая пагуба есть грех, это открылось чрез заповедь; ибо грех воспользовался заповедью к смерти. Так и о болезни, когда она чрез врачебные пособия приходит в худшее состояние, можно сказать, что она обнаружила злокачественность свою посредством врачебного искусства, хотя не получила от него никакой пользы.
Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
Апостол сказал, что грех открылся чрез заповедь. Посему, дабы ты не подумал, что виной греха закон, произносит общий приговор и говорит: ибо мы знаем, что закон духовен . Всем, говорит, известно и всеми признано, что закон отнюдь не есть причина греха, но что он духовен , то есть - наставник добродетели и враг порока. От чего же произошел грех при столь дивном наставнике? От нерадения и немощи учеников. Ибо я , говорит, плотян , что значит: все естество человеческое, как до дарования закона, так и во время закона, наполнено было множеством страстей; ибо вследствие преступления Адамова мы не только сделались смертными, но природа наша получила страсти, предалась греху и стала рабой, так что и головы не могла поднять.
Ибо не понимаю, что делаю.
Здесь говорит не о совершенном неведении, ибо если бы грешили в неведении, то за что же были бы наказываемы? Что же говорит? Пребываю во тьме, увлекаюсь, не знаю, как увлекает меня грех. Посему, когда говорит: не понимаю , то указывает не на незнание того, что должно делать, но на опасности, ковы, обольщение, увлечение. Все это говорит о людях, живших до пришествия Христа во плоти, хотя представил самого себя.
Потому что не то делаю, что хочу.
Так выражается вместо следующего: ибо тогдашние люди не то делали, что хотели. Выражаясь же так, не внушает необходимости или принуждения. Но что говорит? Вот что: чего не одобряли, чего не принимали, чего не любили, то делали. Ибо далее присовокупляет:
А что ненавижу, то делаю.
Видишь ли, что не вводит ни принуждения, ни необходимости? Ибо в противном случае присовокупил бы: к чему вынуждаюсь необходимостью, то делаю. Но это не сказал, а говорит: что ненавижу . Как же произошло зло? По увлечению, по немощи, которую имели от преступления Адамова. Эту-то немощь и не мог уврачевать закон, хотя и говорил, что должно делать; ее уврачевал, пришедши, Христос. Итак, здесь во всем, что сказал и что намерен сказать, цель у апостола та, чтобы доказать, что естество человеческое пришло в неисцелимое состояние и что его никто не исцелит, кроме Христа.
Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр.
Что закон добр, говорит, видно из того, что я по природе знаю, что должно делать, и что разум у меня не поврежден, хотя я и предаюсь пороку.
А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе.
Не сказал, что плоть делает это, но грех , то есть увлекающее меня мучительство греха. Что же болтают вооружающиеся против плоти и исключающие ее из числа творений Божиих? Они предъявляют: ведь апостол говорит: не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе . Выслушай, в каком отношении высказал он это. Человек состоит из двух частей: души и плоти; из них первая, то есть душа, властвует всем, а плоть есть раба. Посему выражение: не живет в плоти моей доброе значит: не состоит во власти плоти, но во власти души; что изберет душа, то и делает плоть. Все равно, как если кто скажет, что стройный звук не в гуслях, но в гуслисте, тот не унижает гуслей, но показывает превосходство художника пред инструментом.
Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
Словом не нахожу обозначил нападение и козни греха; ибо слагает вину и с существа души и с существа плоти и все приписывает порочной деятельности и воле. Когда говорит: которого не хочу , то слагает вину с души, а когда говорит: уже не я делаю , то слагает вину с тела. Кто же делает зло? Грех, который, по словам Иоанна Златоуста, есть порочная и грехолюбивая воля. А эта воля не есть создание Божие, но наше движение. Воля сама по себе есть творение Божие; но воля, направленная к известной цели, есть нечто наше собственное, действие нашего произволения. Выше сказано, что такое грех, то есть мучительство греха, увлекающее ум наш чрез удовольствие.
Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Выражение неясное; в нем чего-то недостает. Надлежало бы сказать: итак, когда хочу делать доброе, нахожу себе в законе защитника, однако не делаю доброго, потому что прилежит мне зло. Смысл настоящего места такой: познание добра из начала вложено в меня; нахожу также, что и закон защищает оное, и хвалит, и я желаю делать добро, но вовлекаюсь какой-то другой силой, и мне прилежит зло, то есть действие зла не уничтожается во мне. Впрочем, святой Иоанн Златоуст, истолковав настоящее место как неполное, внушает, что его можно понимать и иначе, именно так: нахожу, что закон дан не другому кому, но мне, желающему делать доброе; ибо закон есть закон только для желающих делать доброе, как желающий того же, чего желает и он. Это уяснится из последующего.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Я знал добро и до закона, и когда нахожу оное изображенным в письменах, хвалю закон и соглашаюсь с ним по внутреннему человеку , или по уму своему. Но вижу иной закон , то есть грех, который назвал законом потому, что обольщаемые им покорствуют ему и боятся покинуть его, как закон, который должен быть исполнен. Закон этот противоборствует закону ума моего , то есть закону естественному (выше назвал его внутренним человеком, а теперь ясно называет его умом), и одерживает верх, даже делает меня пленником, побеждая и естественный, и письменный закон. Каким образом делает пленником? Законом греховным , то есть силой, мучительством. Не сказал: влечением плоти, или природой плоти, но законом греховным , господствующим в членах моих. Значит, в этом не виновата плоть. Если разбойник займет царский дворец, то дворец нимало не виновен в том. Так и здесь: если в членах моих обитает грех, то от этого плоть не зла. Некоторые подмечают здесь четыре закона: один - Божий, научавший нас приличному, другой - противоборствующий, приходящий к нам по действию диавола, третий - закон ума, то есть естественный, последний - находящийся в членах наших, то есть грехолюбивое произволение и склонность к злу, делающие нас посредством привычки нечувствительными, ожесточенными сердцем.
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
Закон естественный стал недостаточен, закон писанный оказался бессильным, тот и другой победило мучительство греха. Откуда же будем надеяться спасения? Кто избавит меня от сего тела смерти? , то есть повинного смерти. Ибо тело, сделавшись подверженным страданию вследствие преступления, стало от этого и сподручным греху. Скажет кто-нибудь: если тело было сподручно греху, то за что были наказываемы грешники до пришествия Христова? За то, что им даны такие заповеди, которые они могли исполнить и находясь во власти греха.
Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.
Поставленный в безвыходное положение и не нашедший другого спасителя, по необходимости нашел Спасителем Христа. Поэтому и благодарит Бога Отца Иисусом Христом, Господом нашим , то есть причиной благодарения, Христом. Он, говорит, исполнил то, чего не мог сделать закон: Он избавил меня от немощи плоти, укрепив ее, так что она не состоит уже под мучительством греха, но как чрез преступление Адама сделавшись смертной, стала удобопреодолимой для греха, так, чрез послушание Распятого и Воскресшего, получив залог нетления, мужественно противится греху.
Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.
1. ВЕРУЮЩИЙ И ЗАКОН (7:1-6)
Рим. 7:1-3 . Стихи 1-6 связаны по смыслу с 6:14, тогда как 6:15-23 является "вставкой" или отступлением, содержащим в себе пространный ответ на вопрос, поставленный в 6:15. Заявление о том, что верующий, уподобившийся Иисусу. Христу в Его смерти, не находится больше "под законом" (6:14), не должно было удивить читателей послания, поскольку они были людьми, "знающими закон".
Однако не только их, римских верующих из евреев, не могло удивить оно: ведь и язычникам тоже был известен этот принцип: "закон имеет власть над человеком, пока он жив". Эту очевидную истину Павел иллюстрирует на примере брака. "Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества". Закон связывает ее с мужем, пока он жив, и не ясно ли, что смерть его освобождает жену от законного брака!
"Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею", - продолжает Павел. Верно и обратное: если же умрет муж, она свободна от закона (7:2) и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Вдову, вновь выходящую замуж, нельзя обвинить в прелюбодеянии.
Рим. 7:4-6 . В этих стихах Павел применяет свой пример к верующему и закону в их отношении друг другу. Он говорит: Так и вы, братия мои, умерли для закона (в греческом оригинале - "были преданы смерти" - как был ей предан Иисус). Как умер верующий для греха (6:2) и тем освободился от него (6:18,22), так умер он и для закона, а, значит, освободился от него (6:14; сравните с Гал. 2:19). Подобно жене, выходящей из-под власти мужа после его смерти, и верующий не подвластен более закону. Это освобождение от закона он получает через Тело Христа, преданное смерти на кресте, и именно по этой причине.
Вследствие происшедшего христианин подпадает под власть "другого" - "принадлежит другому, Воскресшему из мертвых" (сравните Рим. 6:4,9). Этот "другой", конечно, Господь Иисус Христос. В каком-то смысле верующие связаны с Ним, как связана невеста с женихом. Поэтому Церковь называется Его невестою (Еф. 5:25). Цель Бога во всем этом - достичь такого положения, чтобы мы "приносили плод" Ему (стих 4; сравните Рим. 6:22; Гал. 5:22-23; Фил. 1:11).
Только духовно живая личность в состоянии приносить духовный плод, и плод этот - святая жизнь (сравните Иоан. 15:4-5). Лишь вступив в брак со Христом, можем мы производить духовное потомство (приводя ко Христу новых последователей) и иные духовные плоды. Заметьте, что от обращения во 2-м лице - "вы" в 4 стих Павел в 5 и 6 стихах переходит к "мы", включая и себя самого в число тех, о ком говорит.
"Ибо, когда мы жили по плоти" (буквально "когда мы были во плоти" - употребленное здесь греческое слово "сарх" часто означает "греховную природу"; это же слово - в Рим. 7:18,25), - пишет далее апостол, - тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших. Здесь описано состояние ныне верующего человека до его обращения (6:19).
Доводя до сознания человека, что то-то и то-то запрещено, закон тем самым "обнаруживал" греховный характер человеческих поступков и действий, как это ясно из 7:7-13. Именно в этом смысле находились "под законом" и неспасенные язычники. Соответственно "плоды", приносимые неверующими, были не "плодами Богу" (стих 4), но "плодами смерти" (стих 5). Мысль эта - о том, что грех ведет к смерти, многократно повторена Павлом (5:15,17,21; 6:16,21,23; 7:10-11,13; 8:2,6,10,13).
"Но ныне", отождествившись со Христом, верующие мертвы для закона. И как вдова освобождается от обязательств, налагаемых на нее брачными узами, так и верующий освобождается от уз закона и греха, "обнаруживаемого" им. Цель такого освобождения - в том, - чтобы нам служить Богу (в оригинале - "чтобы нам быть рабами Богу" сравните 6:6,16,17-18,20,22) в обновлении духа, я не по ветхой букве.
Под словом "дух", написанным здесь с маленькой буквы, может подразумеваться духовность в ее противопоставлении мертвой букве письменного документа, каковым был закон. И тогда высказанная тут мысль - в том, что верующие не живут более по "ветхости" закона, но руководствуются в жизни "новизной" своего возрожденного духа. Однако выражение "в обновлении духа" может относиться и к Духу Святому, как к источнику новой жизни (толкование на "дух" и "букву" в 2-Кор. 3:6).
2. ЗАКОН И ГРЕХ (7:7-13)
Касаясь Моисеева закона в своей беседе об отождествлении верующего со Христом и его смерти для греха, апостол не может не прийти к вопросу о взаимосвязи закона и греха.
Рим. 7:7-8 . "Что же скажем? Неужели от закона грех?" - и снова отвечает Павел своим категорическим "Никак!" (сравните толкование на 3:4). Закон обнаруживает грех (7:5), но это никак не означает, что он греховен сам по себе. Далее Павел скажет, что закон "свят" (стих 12) и "духовен" (стих 14). А тут он объясняет, каким образом законом познается грех (сравните с 3:19-20). И для большей конкретности рассматривает это на примере желания. Закон говорил: "не пожелай" (Исх. 20:17; Втор. 5:21), однако, это лишь разжигало в людях желания; здесь в значении "похоти".
Павел познал грех как некое действующее начало, и похоть (нечистые желания) - как одно из конкретных проявлений его, а также то, что осознание этого начала или принципа в действии приходит через закон. И апостол описывает, как именно действует он. Живущий во всяком человеке грех, "взяв повод от заповеди" (буквально "воспользовавшись заповедью как исходным пунктом", - тут греческое слово аформен, означающее военную базу, с которой осуществляются военные операции; сравните 7:11), "произвел во мне всякое пожелание".
Таким образом причиною греха является не закон, а греховное начало, действующее в каждом человеке. Но конкретные заповеди закона возбуждают это греховное начало, стимулируя его к действию в нарушение заповедей, которые, таким образом, принимают характер преступления (4:15; сравните с 3:20; 5:13б,20). Так что, как заключает Павел: "без закона грех мертв". Это, конечно, не значит, что грех не существовал бы, если бы не было закона (5:13), однако, до того, как пришел закон, грех был менее активен, ибо закон не только обнаруживает, но и возбуждает "греховные страсти" (7:5).
Интересно отметить, что, начиная с 7 стиха и до конца этой главы, Павел говорит от первого лица, ссылаясь на свои личные переживания и опыт. До этого он говорил "они" и "вы" или "мы", включая в число тех, к кому обращался, и себя самого. Но теперь он отталкивается от собственного опыта, уповая на то, что Дух Святой поможет его читателям применить сказанное к самим себе.
Рим. 7:9-12 . Выражение "я жил некогда без закона" некоторые понимают обобщенно - как относящееся ко всему опыту человечества в период между изгнанием Адама и Евы из рая и получением закона Моисеем. Однако оснований для такого понимания нет. Апостол, очевидно, говорит о собственном опыте, то есть о себе самом в детском и даже в юношеском возрасте, когда в полной мере он еще не понимал значения Божиих заповедей.
Под словами "но когда пришла заповедь" подразумевается не "когда заповедь была дана через Моисея", но - личное прозрение Павла, когда он, еще до своего обращения, вдруг осознал смысл той же заповеди "не пожелай" во всей ее полноте. В результате греховное начало, всегда жившее в нем, заявило о себе явно и в полный голос ("грех ожил") - посредством нарушения упомянутой заповеди. А это привело к тому, что Павел умер духовно (сравните 6:23а) - умер по приговору закона, который он нарушил. Заповедь "не пожелай" дана была в помощь людям, чтобы они поняли, как им нужно жить, однако, на деле, она стала причиной смерти, потому что в человеческих сердцах царствует грех.
Повторив мысль относительно взаимосвязи между грехом и заповедью, выраженную в 7:8, апостол заявляет (стих 11): "грех обольстил меня". В отрыве от закона грех пребывает в как бы дремлющем пассивном состоянии, однако, "взяв повод от заповеди", он обнаруживает свою силу, управляющую поступками людей и их действиями.
Таким образом и соблазняет грех людей (в греческом оригинале - слово, буквально означающее "уводить в сторону"; сравните 2-Кор. 11:3; 1-Тим. 2:14) и, соблазнив, ведет их к смерти (буквально "убивает"), но не к физической смерти, а к духовной. Грех - это внутренний враг человека (Быт. 4:7). Закон же не только не грешен (Рим. 7:7), но свят, и заповедь ("не пожелай", которая, будучи частью закона, как бы представляет его в целом) свята и праведна и добра.
Рим. 7:13 . Далее Павел предвосхищает другое возможное недоумение, могущее возникнуть у читателей относительно связи между грехом и законом. Только что он упомянул, что "заповедь добра" и вот теперь спрашивает: "Итак неужели доброе сделалось мне смертоносным?" Следует его категорическое "Никак" (сравните толкование на 3:4), а за ним - объяснение. Греховное начало в человеке, а не закон приносит ему смерть (5:12).
Грех использует заповеди, которые добры сами по себе, как средство убивать человека, а потому грех становится крайне грешен посредством заповеди. Живущий в человеке грех использует как отдельные заповеди, так и весь закон в целом - "святые, праведные и добрые", - чтобы явить свою противную и противящуюся Богу сущность и продемонстрировать силу своего воздействия на человека.
3. ВЕРУЮЩИЙ И ГРЕХ (7:14-25)
Рим. 7:14 . Чтобы понять сущность внутренней борьбы, сопутствующей процессу освящения каждого верующего, нужно рассмотреть отношение между верующим и живущим в нем грехом. Стих 14 знаменует собой переход Павла от одной темы (стихи 7-13) к другой. Заявление "закон духовен" (сравните с 12 стих) не только является выводом из сказанного апостолом перед этим, но и соответствует общепризнанному факту. Ведь закон дан Богом, Который есть Дух (Иоан. 4:12), и открывает людям волю Божию относительно того, как им жить.
Выдвигая самого себя в качестве примера, Павел говорит: "а я плотян" (т. е. "сделан из плоти"; и в этом - суть проблемы). Кроме того, "я… продан греху" (грамматическое построение греческой фразы свидетельствует, что в этом, грешном, состоянии "я нахожусь и поныне"; смысл ее тот же, что я "под грехом" - сравните Рим. 3:9.
Ссылаясь на свой личный опыт в 7:14-25, Павел последовательно пользуется настоящим временем, в отличие от чаще употребляемых им двух форм греческого прошедшего времени (несовершенного и так называемого "аориста"). Очевидно, подчеркивая этим, что описывает собственную борьбу - как христианина, в котором все еще живет грех, стремящийся удержать под своим воздействием его повседневную жизнь.
Фраза "продан греху" относится к состоянию невозрожденного человека, однако, грех продолжает жить и в верующем человеке, который все еще подлежит физической смерти (в наказание за грех). Другими словами, грех, живущий в христианине, продолжает предъявлять на него права как на свою собственность и после обращения того к Господу.
Рим. 7:15-17 . Павел начинает с того, что прямо говорит: "Ибо не понимаю, что делаю". Он подобен маленькому мальчику, который честно отвечает на вопрос, почему он делает то, что делать не следовало: "Не знаю". Что-то непонятное и необъяснимое толкает человека на те или иные поступки. Продолжая выражать свое недоумение, Павел говорит: "потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю". Подобное заявление мог бы сделать невозрожденный человек в момент своего наивысшего нравственного прозрения, но и человек возрожденный мог бы заявить то же самое.
Нет никаких оснований думать, будто Павел не имел в виду собственное - как верующего человека - состояние на тот момент. Апостол говорит: "соглашаясь с законом; что он добр". Греч, слово колос, переведенное тут как "добрый", буквально значит "прекрасный, замечательный, отличный", тогда как в стихе 12 "заповедь добра" в оригинале звучит как "заповедь полезна, справедлива" (греческое слово "агате"). По этой-то причине и приходит Павел к выводу: "А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех". Это, конечно, не означает, что Павел хочет избежать личной ответственности за свои действия - он лишь говорит о противоречии, конфликте между его желаниями, намерениями и грехом, живущим в нем.
Рим. 7:18-20 . Личный опыт подсказывает Павлу, что "закон добр" (стих 16). Но с другой стороны апостол откровенно признает: "Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, во плоти моей доброе" (сравните стих 5, 25). Он имеет в виду не физическую плоть, но то присущее человеку греховное начало, которое проявляет себя в делах, диктуемых ему разумом и плотью (телом). В подтверждение последнего своего заявления Павел поясняет: "потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу" (другими словами: "не могу это свое желание осуществить").
И далее Павел несколько другими словами повторяет то, что сказал во второй половине стиха 15, а в стихе 20 повторяет мысль, высказанную в стихе 17. Апостол признает, что даже и в нем верующем живет греховное начало, которое когда-то владело им как своим рабом и все еще действует в нем, заставляя совершать вещи, которые ненавистны ему, и мешая ему делать то, что он хотел бы делать. С этой проблемой сталкиваются все верующие.
Рим. 7:21-23 . Апостол Павел был человеком, который стремился извлекать выводы из своего жизненного опыта: "Итак я нахожу закон", - пишет он; другими словами - "итак я прихожу к выводу, что действует некий закон". Понятно, что речь в данном случае не о законе Моисея, но о некоем принципе, о том, что следует из опыта. В 8:2 речь тоже идет не о законе Моисея, а о некоем действующем принципе (греческое слово "номос").
Этот закон, или принцип, о котором говорит Павел в 7:21, выражается в постоянном присутствии злого начала в человеке, которое заявляет о себе, коль скоро человек проявляет намерение сделать добро. Павел подчеркивает тот факт, что "по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием" (сравните с 7:25). Выражение "внутренний человек" встречаем также во 2-Кор. 4:16 и Еф. 3:16. Псалмопевец Давид тоже находил удовольствие в законе Божием, о чем говорил неоднократно (к примеру, Пс. 118:16,24,47; сравните с Пс. 1:2).
Благодаря пережитому им духовному возрождению верующий человек получает способность любить духовные истины. Однако на основании своего личного опыта Павел свидетельствует и о другом законе, действующем внутри него. Это закон греха. Павел называет его "живущим во мне грехом" (Рим. 7:17,20); прилежит мне (делать) злое (стих 21) в англ. Библии переведено как "злое тут как тут".
Закон греха постоянно действует в двух направлениях: противоборствует "закону ума" верующего и делает его "пленником" греха, живущего в "членах" его. Другими, словами, греховное начало не прекращает "военных действий" против новой природы христианина, пытаясь взять над нею верх и подчинить ее себе (стих 14, 25 и 6:17,19-20) с тем, чтобы верующий поступал в угоду греху. Павел называет эту новую природу "законом ума моего" (сравните 7:25) - по причине ее способности воспринимать нравственные законы и выносить суд, опираясь на критерии морали.
Итак, несмотря на то, что верующий принял Иисуса Христа в свое сердце и соединился с Ним в Его смерти и воскресении, и несмотря на его старания прославлять Христа всей своей жизнью и поведением, своею силою он не в состоянии успешно сопротивляться собственной греховной природе. Потому-то и преследуют его разочарование и терпит он поражения.
Рим. 7:24-25 . С горечью восклицает Павел: "Бедный я человек!" Собственное состояние, описанное апостолом, очень похоже на состояние Лаодикийской церкви, как описано оно Иоанном (Откр. 3:17). И вот Павел спрашивает: "Кто избавит меня от сего тела смерти?" Он сознает, что пока находится в этом теле, постоянно будет сталкиваться с проблемой живущего в нем греха, одолеть который своими силами так и не сумеет. Здесь он называет свою человеческую плоть "телом смерти", а в Рим. 6:6 - "телом греховным".
Оба названия имеют общий смысл: грех действует через человеческое тело (сравните 6:6,12-13, 19; 7:5,23), обрекая его на смерть (6:16,21,23; 7:10-11,13). Ответ Павла на собственный вопрос звучит ликованием и торжеством: "Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим!" Этот ответ продиктован верой апостола в конечную победу Иисуса Христа, плоды которой Он разделит со Своим народом.
Как верою отождествились с Ним христиане в смерти Его и воскресении здесь и теперь, так соединятся они со своим Господом, воскресшим и вознесшимся, в вечности, обретя новые тела, навсегда освобожденные от всякого греха (8:23; Фил. 3:20-21). Но в этой, земной, жизни Павел приходит в отношении себя к грустному выводу: "Итак, тот же самый я умом (моим) служу закону Божию, а плотию закону греха" (7:15,18,23). Ожидая упомянутого освобождения, верующий все еще претерпевает в себе столкновения между своим обновленным "умом" (или новой своей природой, наделенной способностями, которых прежде у нее не было) и прежней своей греховной натурой с ее злыми возможностями и способностями.
Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над человеком, пока он жив?
Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества.
Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если
же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за
другого мужа. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти;
но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него,
чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай.
Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв.
Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил,
а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти,
потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу,
то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр,
а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.
Каким образом христиане освободились от подчинения закону и какие следствия этого освобождения (1–6). Находясь под законом, человек не мог быть праведным, потому что закон только еще более возбуждал силу греха (7–13). Причиною такого явления было природное бессилие человека в отношении к добру (14–25).
Рим.7:1. Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над человеком, пока он жив?
Рим.7:2. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества.
У Апостола осталось недостаточно разъясненным положение 14-го стиха VI-ой гл.: «вы не под законом, а под благодатью». Он и дает теперь это разъяснение, сравнивая положение читателей до принятия ими христианства с положением замужней женщин. Закон привязывает жену к мужу – она не может уйти от него, пока он жив. Только смерть разрывает брачный союз. С читателями послания случились нечто подобное. Они умерли для закона и этим освободились от всякой зависимости от него. Теперь они с полным фактом могут принадлежать Христу. Этот новый союз или брак для них несравненно полезнее, потому что тут они не служат уже страстям своим, как прежде, а совершают добрые дела.
Прежде всего Апостол устанавливает то положение, признаваемое всеми, что закон, всякий закон – и еврейский, и языческий – написан для временной жизни человека. В частности, поэтому и закон о неразрывности брака, о «привязанности» жены к мужу имеет в виду опять только временную жизнь и не простирает своих прав долее: если один супруг умирает, жена-вдова, понятно, становится существом свободным и может вступить в новый брак.
«Знающим закон». Здесь разумеется вообще закон – не один Моисеев. В особенности Апостол мог назвать так римлян, которые хорошо были знакомы с законами.
«Пока он жив» – он, т. е. человек. Человек – мужчина и женщина – пока представляет собою члена общества, до тех пор и должен повиноваться закону, упорядочивающему отношения членов общества друг к другу. – Если умрет муж. Апостол упоминает только об одном случае, когда возможен был второй брак для женщины – это смерть мужа. О том, что жена могла выходить замуж и тогда, когда муж давал ей развод, Апостол не говорит потому, что у него действующею стороною изображается жена, а в разводе она такою не была (Втор 24:1). – «Освобождается от закона замужества», т. е. перестает существовать, как жена, освобождается от власти (закона) мужа.
Рим.7:3. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа.
Здесь Апостол делает вывод из приведенного во 2-ом стихе положения закона для того, чтобы доказать право жены на вступление во второй брак.
Рим.7:4. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.
Делая теперь приложение из сказанного к христианам, Апостол говорит, что они умерли для закона и потому могут принадлежать Христу. – «Умерли» – точнее: умерщвлены (εθανατώθητε). Употребленная здесь форма глагола (аорист страд. залога) обозначает высшую степень пассивности. Иисус Христос увлекает верующих с чрезвычайною силою к участию в Его страданиях и смерти. – «Для закона». Хотя римляне и не жили раньше в подчинении закону Моисееву, но они все-таки пережили вместе со Христом предварительное подчинение закону Моисееву (в смерти со Христом) и потом освобождение от него (в воскресении). – «Телом Христовым». Это выражение указывает на действительную смерть Христа и, след., на действительное воскресение. Апостол говорит не о смерти мужа – закона, а о смерти жены – людей потому, что, как выражается Иоанн Златоуст, он не хотел оскорблять иудеев, исповедовавших Христа и в то же время соблюдавших закон Моисеев (Ап. Иаков и др.). Кроме того, так как новым супругом является Христос, умерший и воскресший, то и жена должна быть изображена как умершая, чтобы потом, по своем воскресении, соединиться с воскресшим Христом. Это – союз, заключенный как бы по ту сторону гроба.
«Да приносим плод Богу». Апостол здесь заканчивает начатый им образ брачного союза. Верующие, изображаемые у Апостола, как женщина, заключившая новый брак, теперь уже приносят плоды Богу, т. е. от нового брака рождаются дети для Бога или добрые дела. Таким образом, получаются самые хорошие результаты от того нового порядка жизни, в котором закон уже не имеет значения.
Рим.7:5. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти;
Прежде получались совсем иные результаты. – Живя по плоти, т. е. угождая требованиям своего я, мы подчинены были страстям или аффектам греховным (παθήματα αμαρτιών). Закон еще более возбуждал их деятельную силу (ср. ст. 7 и сл.). И вот результатом этого были плоды, приносимые смерти, т. е. дела дурные, ведущие к духовной смерти.
Рим.7:6. но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
Освобождение от закона не есть освобождение от всякой зависимости. Напротив, свободный от закона верующий несет высшее и лучшее служение в обновлении духа. Это новое состояние, в какое вводит верующих Св. Дух, есть состояние полной гармонии между склонностями сердца и нравственными обязанностями, когда человек с радостью идет на подвиги самопожертвования из любви к Богу. Этому состоянию противоположно прежнее, которое Апостол называет жизнью «по ветхой букве». Здесь под ветхою буквою, конечно (ср. Евр 8:13), Апостол разумеет обветшавший закон Моисеев, названный у него буквою потому, что он обращал внимание, главным образом, на внешнее состояние человека и оставался со своими предписаниями чем-то внешним, чуждым для человека. – Несомненно, что Апостол здесь, как и далее, имеет в виду читателей – природных евреев или же прозелитов иудейства (Цан).
Рим.7:7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай.
В каком, однако, смысле закон служил человеку помехою на пути к праведности? Конечно, не в том, что будто бы он порождал грехи, каких без него человек не совершил бы. Нет, он своими требованиями возбудил силу сопротивления в грехе, который лежал в скрытом состоянии в природе человека, и этот грех умертвил человека. Виновен, значит, в смерти человека (смерти духовной) не закон, а грех. Закон же имел только самые святые цели в отношении к человеку.
Апостол в 1–6 ст. VII-й гл. поставил закон и грех в очень тесные отношения друг с другом, так что могло явиться подозрение такого рода: уж не есть ли закон что-либо дурное сам по себе? («От закона грех» – точнее: «неужели закон – грех»)? Апостол отвечает отрицательно на этот вопрос. Закон – не грех, но дает только узнать, что человек находится во грехе; он только открывает греховность человека. – «Я не иначе узнал грех», т. е. не иначе открыл в себе существование греха (ср. Рим.3:20). – «Ибо я не понимал бы и пожелания». Апостол указывает здесь частный факт для доказательства только что высказанного им общего положения. Он узнал о существовании в нем греха через закон именно потому, что одна из заповедей закона ясно указала ему на пожелание, существование которого, как чего-то ненормального, иначе навсегда бы осталось ему неведомым. – «Не понимал бы» – правильнее: не заметил бы (ούκ ήδειν). – Пожелание, т. е. стремление души к предметам, которые могут дать ей удовлетворение, так свойственно человеческому сердцу, что оно (пожелание) совсем не бросается в глаза совести человека, если бы закон не говорил против него, не указал на него, как на знак противления Богу. Таким образом, только 10-я заповедь закона Божия определила пожелание, как нечто ненормальное, и, благодаря этому, еврей (Апостол говорит, как еврей) сознал свое греховное состояние. Итак, по Апостолу, еврей открывал в себе присутствие греха и пожеланий только тогда, когда пред его сознанием становилась определенная заповедь закона, запрещавшая пожелания. Не противоречит ли такое утверждение тому наблюдению, что и среди язычников, не имевших заповедей закона Моисеева, все-таки существовало представление о греховности человека? Об этой греховности говорят, напр., Фукидид, Диодор, Эпиктет, Сенека и др. (см. у Мышцына стр. 41 и 42 примеч.). Но различие между воззрением язычников на грех и учением Павла – очень большое. Именно язычники не признавали, что грех живет в природе человека, и не думали, что эта греховность вызывает собою гнев божества.
Заповедь, запрещающая не только свободные решения, идущие в разрез с законом Божиим, но даже осуждающая непосредственные, бессознательные влечения сердца, предшествующие этим решениям, еще не была известна языческому миру. Правительственный закон и философская мораль осуждали или внешние преступления, или поступки, совершаемые в силу решений свободной воли человека. Вглубь человеческого существа, где еще не проявляет себя свободная воля, они не проникали (И. Златоуст к 13-му ст.).
Рим.7:8. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв.
С появлением 10-й заповеди закона грех посредством этой заповеди породил в человеке (еврее) множество пожеланий, а до того времени он находился в мертвенном состоянии. – Русский перевод этого стиха несколько неточен. Лучше читать так: «грех потом взял повод и произвел во мне через заповедь (διά τ. εντυλής, а не «от заповеди», как в рус. пер.) всякого рода пожелания». Повод – точнее с греч. опорный пункт (αφορμή) – это разные запрещенные заповедью предметы, на которых останавливается внимание человека. – Чрез заповедь. Известно, что все запрещенное представляется человеку особенно желательным и завидным. Эту мысль выразил Овидий в словах: «мы стремимся к запрещенному» (Amores IIÏ4.17). Конечно, такое соблазняющее действие производится запрещением на натуру, уже испорченную грехом, в которой сильны эгоистические стремления. На чистую же натуру первых людей запрещение само по себе не произвело пагубного действия – погибель первым людям пришла не от их сердца, а от диавола – соблазнителя, след., от чуждой силы. – «Мертв», т. е. бездеятелен, подобно болезни, существующей только в зачаточном виде и нуждающейся в благоприятных условиях для своего развития.
Рим.7:9. Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил,
Рим.7:10. а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти,
Рим.7:11. потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
Апостол противополагает состояние человека до-закона состоянию подзаконному. Там, можно сказать, человек жил, тут – он стал мертв. – «Некогда» – именно в состоянии детской невинности. Закон с своими запрещениями в то время еще не дошел до сознания Павла, и греховное начало поэтому не было действенно. Это состояние Апостол и называет жизнью (жил). «Каждый человек, – говорит Ориген, – жил некогда без закона, когда был дитятей». – «Пришла заповедь», т. е. моему сознанию выяснилась непозволительность многих, по-видимому, естественных желаний через заповедь Моисеева закона. – «Ожил», т. е. стал проявлять свою жизненную силу, которая до тех пор была нечувствительна. Он как бы спал, а теперь проснулся. – «Я умер», т. е. впал в состояние, какое нельзя назвать жизнью. Это состояние постоянного страха пред Небесным Судиею. Человек стал относиться к Богу не как сын, а как раб, который послушен господину только по неволе, по необходимости. Разве это жизнь?!
Указанное выше действие заповеди было совершенно неожиданно для человека. Объяснить его можно только влиянием греха. – «Заповедь, данная для жизни». Жизнь, т. е. благополучие внешнее в соединении с внутренним, основанным на тесном общении с Иеговою, была обещана исполнителю закона вообще (Лев. 18:5; Втор 5:33), в частности и исполнителю 10-й заповеди. – «Послужила». Здесь пропущено местоимение эта (αύτη), которое усиливает мысль. Вместо послужила правильнее перевести: оказалась (ευρέθη). Иоанн Златоуст видит в этом выражении намек на неожиданность и странность того исхода, какой имело дарование людям заповеди. Виною этого исхода были, по его объяснению, сами люди. – «К смерти» – ближе всего, временной духовной, так как только такая смерть наступила фактически; но потом это выражение может означать и вечную смерть, в противоположность вечной жизни, какую хотел дать своим исполнителям закон. – «Потому что грех». Истинною причиною сейчас указанного обстоятельства был грех. Эту мысль, высказанную еще в 8-м ст., Апостол повторяет теперь с большею силою. – «Обольстил меня». Как змей обольстил Еву, представил себя ее другом, а Бога – ее врагом, так и грех обольщает каждого человека, рисуя пред ним запрещенное в самом радужном цвете, хотя оно на деле не таково. – «Умертвил», т. е. отдалил меня от истинной жизни.
Рим.7:12. Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра.
Здесь Апостол делает вывод из 7–11 стихов. Закон, рассматриваемый, как целое, и каждая его заповедь сами по себе святы, т. е. возвышают человека над грешным миром и требуют преданности Богу от всего сердца. Заповедь, кроме того, Апостол называет праведной, как устанавливающую правильные отношения между отдельными существами, и, след., прямо противоположной греху, и благой, т. е. благодетельной, «уготовляющей жизнь хранящим ее» (Феодорит).
Рим.7:13. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
Апостол чувствует нужду еще точнее формулировать решение поставленной им проблемы. Могло ли доброе, спасительное по существу своему, сделаться причиною смерти, т. е. наивысшего зла? (в смысле 10-го стиха). Нет – отвечает Апостол – смерть человеку причинил грех, а не то доброе. Это сделал грех для того, чтобы оказаться, явиться (ίνα φανή – по-русски неточно: «оказывающийся грехом») как грех, т. е. в своей истинной натуре, а таким он явился, причиняя смерть, т. е. высшее зло, посредством того, что само по себе есть благо. Это было необходимым приготовлением к делу искупления, которое и было воспринято людьми тогда, когда для них ясно стало все вредоносное влияние их прежнего руководителя и друга – греха. Грех превратил благословение Божие – закон – в проклятие! Можно ли было после этого с ним пребывать в общении? – «Так что грех становится» – правильнее: чтобы явился (ίνα γένηται) – выражение параллельное предшествующему: чтобы оказаться. Грех должен был явиться пред глазами человека во всей своей гнусности («крайне грешен»), и вот он является таким, злоупотребив заповедью Божией (посредством заповеди).
Рим.7:14. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.
Причина, почему закон принес человеку проклятие вместо благословения, лежала в испорченности человеческой природы. Человек – существо плотское, и плоть его подпала вполне господству греха, который стал законам для его воли. Однако и в естественном человеке, кроме плоти, есть «душа (или, как выражается Апостол, ум), и душа не может не признавать пользы закона Божия», хочет его исполнять. Но, к сожалению, это истинное я человека – бессильно в своих стремлениях к добру. Собственно действующим началом является плоть, в свою очередь являющаяся безвольным орудием греха. А так как все-таки душа является носительницей самосознания, то в результате всего получается, что одно и то же лицо и стремится к добру, и делает зло. При таких условиях естественный человек вовсе не может соблюдать закон, и этот последний, не давая человеку оправдания, может приводить его только к сознанию своего бессилия.
«Закон духовен» (πνευματικός). Это слово (πνευματικός) означает происхождение закона из божественного духа (ср. Рим.1:11). «Закон написан духом Божиим» (Феодорит). В силу этого он есть «наставник добродетели и враг порока» (Злат.). – «А я плотян» (σάρκινος), т. е. я, как и всякий другой человек невозрожденный, неискупленный, по своей природе (поэтому Апостол употребляет с 14-го ст. везде настоящее время для описания своего состояния) ищу только того, что приятно. У него есть и добрые задатки, но эти природные задатки едва видны – они обессилены и заглушены. Выражение плотяный не тожественно однако с выражением плотской (σαρκικός). Последнее указывает на такое состояние, в котором человек определяется в своих решениях, и действиях только плотью (σαρξ) и когда добрые задатки уже вовсе не заметны, а первое обозначает только преобладание низшей, физической, жизни (ср. 1 Кор 3:1, 3). – Продан под грех, т. е. вполне завишу от силы греховного начала, подобно тому, как раб зависит от своего господина. Но этим не обозначается необходимость греха, а лишь сила его. «На деле же бывает так, что грешащий в угоду самости и страстям всегда делает это свободно, самоохотно решается на такие дела… Грех представляет дело так, что человек считает более пригодным поступить против закона, нежели по закону – и грешит. Человек может и не грешить, но он только так грехи любит, что на требования правды и не смотрит» (Феофан).
Рим.7:15. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
Апостол разъясняет, в чем именно заключается рабство человека греху. – «Не понимаю что делаю». Раб не знает, что собственно имеет в виду его господин, заставляя его что-либо совершить. Так и человек, предавшийся греху, действует по слепому инстинкту, который заставляет его делать то, что человеку вовсе и не думалось; человек совершает то, что он сам по себе никогда бы не стал делать. – «Не то делаю, что хочу». Из этого ясно, что Апостол говорит во всем этом отделе с 7-го ст. о человеке невозрожденном, ибо возрожденный человек, благодаря помощи благодати Божией, может всегда приводить свое хотение в исполнение, «Бог, – говорит Апостол филиппийским христианам, – производит в вас и хотение и действие, по Своему благоволению» (Флп 2:13). – Замечательно, что изображение душевного разлада, какое здесь дано Апостолом, сходится с наблюдениями и языческих философов, которые изображали свое душевное состояние прямо трагическим. Так Епиктет говорил: «что хочет (согрешающий), того не делает, а делает то, чего не хочет» (Euchir. IÏ26, 4), а Овидий восклицал: «вижу лучшее и одобряю, а следую худшему!» (Metam. VII, 19).
Рим.7:16. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр,
Апостол сознает, что его действия не согласны с его внутренними склонностями. Хотя он поступает против закона Божия, тем не менее он не может не сознавать, что закон собственно достоин всякого уважения (добр – по греч. καλός – собственно: прекрасен).
Рим.7:17. а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
Здесь Апостол вовсе не хочет оправдывать себя – он говорит это только для того, чтобы яснее изобразить свое бедственное состояние. Его личность, его я – уже перестало быть хозяином в своем собственном доме! Там распоряжается только грех. Что может быть невыносимее такого подчинения?
Рим.7:18. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Апостол еще обстоятельнее раскрывает пред читателями всю бедственность своего состояния. – «Не живет во мне, то есть во плоти моей». Сказавши, что доброе не живет в нем, Апостол сейчас же выражением «то есть» ограничивает сказанное, чтобы не подумали, что в нем вообще, во всем его существе нет никакой доброй мысли, доброго чувства и желания. Он говорит, что именно в плоти его не живет доброе. Очевидно, что он различает в себе две стороны: я и плоть (телесно-материальная сторона). Его я, как он сказал уже выше, оценивает закон Божий по достоинству и стремится к добру, но плоть не дает возможности удовлетворять такому стремлению. Плоть здесь, таким образом, выступает, как седалище и область господства греха в человеке. В плоти живет грех и отсюда он стремится привести к гибели всего человека. Чуждая – очевидно, темная, демонская – сила завладела плотскою стороною человеческого существа и не дает возможности жить и развиваться добрым задаткам. Так посаженный среди крапивы цветок быстро заглушается крапивой и увядает! – «Желание добра есть во мне». Апостол как бы осматривается вокруг, в сфере своей внутренней жизни, и усматривает, что есть в нем добрые желания и намерения, но нет – прекрасных дел! (по новейшим изданиям, это место читается так: «но соделания добра нет!» – Слово «нахожу» признается излишним прибавлением, так как его нет в большинстве наиболее древних кодексов. См. изд. Tishendorf a Novum Fest gr. 1872 г.),
Рим.7:19. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
Рим.7:20. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.
Рим.7:21. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Апостол повторяет здесь высказанные выше (ст. 15–17) мысли, так как он придает им чрезвычайную важность. – «Нахожу закон». Апостол даже признает, что такое бедственное состояние, такой душевный разлад стал у него чем-то нормальным, как бы вошел в закон или порядок жизни. – «Прилежит мне». Даже когда он задумает совершить что-нибудь доброе, то с удивлением замечает, что в руке у него вместо добра очутилось зло, вместо золота – камень! Какая-то сила превращает во зло всякое его доброе начинание – и эта сила, очевидно, – сила демонская, свившая себе гнездо во плоти человека
Рим.7:22. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
Рим.7:23. но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Апостол, по внутреннему человеку, сочувствует требованиям закона Божия, но это сочувствие никогда не может выразиться практически, потому что встречает на пути к этому серьезную помеху – в законе членов. – «По внутреннему человеку». Как видно из ст. 23-го, Апостол считает возможным заменять это выражение другим – ум (νους). Что же такое ум, по Апостолу? Это не только способность различать истину и ложь, доброе и злое, но в то же время нравственное чувство, какое влечет человека к исполнению закона Божия, которое находит удовольствие в этом законе. Апостол называет ум внутренним человеком потому, что при господстве греха над внешним человеком или над плотью эта внутренняя сторона или сила не может найти для себя способа обнаружения во вне. – В членах моих – эта тоже, что во плоти, т. е. в телесно-материальной стороне человеческого существа.
«Противоборствующий закону ума». Тут начинается сравнение, взятое из сферы военных действий. Апостол видит двух противников: 1) закон ума (или, что то же, внутреннего человека) и 2) закон членов (или, как далее называет его Апостол, закон греховный). Первый влечет человека к исполнению закона Божия, указывает ему путь к небу, второй – отвлекает человека от этого и влечет в ад. Одолевает в этой борьбе второй закон, и он-то пленяет человека и, как пленника, заставляет, конечно, делать, что ему, закону греха, угодно.
Рим.7:24. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?
Рим.7:25. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.
Возглас страдания испускает плененный грехом человек. – «Бедный я»! Хотя человек и сам виноват в том, что отдает себя во власть греха, но, тем не менее, все-таки в основе его страданий лежит вина, унаследованная им от своего прародителя, Адама, за которую должно страдать все человечество. – «Кто избавит меня» – точнее: кто бросится (ρύσεται) за меня сразиться и избавить меня от плена?! – «От сего тела смерти». Можно, конечно, перевести и так сразу: έκ τ. σώματος τ. θ. τούτου, – с грамматической точки зрения тут ошибки нет. Но если принять во внимание то, что раньше Апостол ничего не говорил о качествах тела (σώμα), то такой перевод должен быть признан здесь неподходящим. Лучше поэтому перевести так: «от тела смерти этой». Эта фраза будет, таким образом, обозначать тело, подпавшее влиянию греха и ему служащее (ср. Рим.6– тело греха). От такого-то тела и хотел бы избавиться Апостол (ср. Кол 2:11). – «Благодарю Бога». Апостол не может удержаться от выражения радости по поводу полученного через Христа избавления от такого тягостного разлада. Но он не входит в подробности совершения этого спасения, потому что о них он говорил и в III, и в V гл. – «Итак». Здесь дается заключение ко всему отделу, начинающемуся 14-м и кончающемуся 24-м стихом. – «Тот же самый» – правильнее: «а сам я», т. е. человек, предоставленный собственным силам, без помощи Христа. Такой человек умом служит закону Божию, а плотью – закону греха. – «Закон Божий» – это не Моисеев закон, а закон ума (ст. 23), который побуждает ум человека невозрожденного сорадоваться закону Божию (ст. 22) и который назван Божиим потому, что Бог именно требует от человека такого отношения к Его закону. Служение, какое имеется здесь в виду, есть служение внутреннее, так как внешнее служение человека посвящается закону греха.
Примечание . В объяснении, здесь предложенном, принят взгляд тех толкователей, которые во всем отделе с 7 по 25 ст. видят изображение состояния человека подзаконного, невоздержного. Против такого толкования, принимаемого, в частности, и св. Иоанном Злат., Феодоритом и др., другие толкователи (блаж. Августин, Анзельм, Фома Аквинот, Лютер, Меланхтон, Кальвин и мн. др.) возражали, но все их возражения крайне мелочны. Напротив, первое понимание имеет за себя серьезные основания, а именно: 1) состояние возрожденного человека, как оно описано в VI гл., является прямою противоположностью того, что Апостол говорит здесь. Напр., по VI гл. личность человека восстает, оживает (ст. 7, 11), а здесь она умирает (ст. 10);
2) если здесь Апостол изображает возрожденного человека, то что же значило бы выражение: «а я жил без закона» ? (9 ст.);
3) возрожденный не может назваться плотяный (σάρκινος): он называется у Апостола духовным (Рим 8:9; Гал VÏ1); не может он назваться и «проданным под грех» (ср. 1 Кор 6:20, 7:23); наконец,
4) как бы возрожденный мог недоумевать, кто избавит его от служения греху (ст. 24), когда он это избавление уже получил во Христе Иисусе?!
Таким образом, Апостол – как правильно объясняет Bonnet (Comm. p. 85) – говорит здесь не о естественном человеке в его состоянии неведения и добровольного греха, не о чаде Божием, возрожденном благодатью Божией, а о человеке, совесть которого, пробужденная законом, с серьезностью, со страхом и трепетом, но все-таки собственными силами, начала сомнительную борьбу со злом. Конечно, такая борьба должна была окончиться для человека неудачею… Также оканчивается она и для возрожденного, когда он становится в положение человека, изображенного в VII гл. Ап. Павлом. Если он забывает о Христе и Его благодатной помощи, то и для него не может быть надежды на успех, как бы ни были идеальны те цели, к которым он стремится. Поэтому жалобы Ап. Павла на разлад душевный, какой он испытал в фарисействе, могут снова раздаться из уст христианина без Христа.