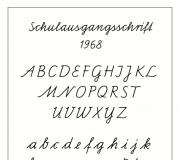Алексей Рыков: биография и характеристика. Дочь председателя совнаркома Председатель правительства ссср
Саратов , Российская империя
Москва , СССР
Алексей Ива́нович Ры́ков (13 (25) февраля , Саратов - 15 марта , Москва) - российский революционер, советский политический и государственный деятель, первый народный комиссар внутренних дел РСФСР (1917), народный комиссар почт и телеграфа СССР (1931-1936), председатель СНК СССР (1924-1930) и одновременно СНК РСФСР ( -), председатель ВСНХ РСФСР (1917-1918) и ВСНХ СССР (1923-1924), член Политбюро (1922-1930).
Детство и юность
Родился в семье крестьянина Ивана Ильича Рыкова, переселенца из слободы Кукарка Яранского уезда Вятской губернии . Его отец занимался земледелием, потом торговлей в Саратове. В 1889 году отец Рыкова уехал на заработки в Мерв , где умер от холеры , оставив семью из 6 человек, состоящую из детей от первого и второго брака.
Детство Рыкова прошло в нужде. Мачеха могла прокормить только своих родных детей. Старшая сестра Клавдия Ивановна Рыкова, служившая в конторе Рязанско-Уральской железной дороги и занимавшаяся частными уроками, взяла на своё попечение мальчика и помогла ему поступить в 1892 в Саратовскую 1-ю классическую гимназию. Позже, когда 13-летний Рыков был переведён в старшие классы гимназии, он уже сам зарабатывал частными уроками. Любимыми предметами Рыкова в гимназические годы были математика, физика и естественные науки.
В 4-м классе гимназии, в 15 лет, Рыков перестал посещать церковь и исповедоваться, чем вызвал огорчение и упреки со стороны гимназического начальства, несмотря на это ценившего Рыкова за блестящие успехи в учёбе.
Революционная деятельность
Ещё в гимназии Рыков увлёкся революционными идеями, в связи с чем имел неприятности с полицией. Так, накануне выпускных экзаменов в доме Рыковых был произведен обыск на предмет поиск нелегальной литературы. В годы молодости Рыкова Саратов был «ссыльным городом», местом, где отбывали ссылку за политические взгляды. В городе было несколько революционных кружков, в работе которых Рыков принимал самое активное участие. Значительное влияние на Рыкова в эти годы оказал известный деятель партии социалистов-революционеров Николай Иванович Ракитников . Знакомство со старым народовольцем Валерианом Балмашёвым подвигло Рыкова заняться изучением крестьянского движения. С сыном Балмашёва Степаном , убившим в 1902 году министра внутренних дел Сипягина , Рыков был в приятельских отношениях.
 Революционные взгляды Рыкова стали причиной «четвёрки» за поведение в аттестате. Последнее обстоятельство закрыло перед ним двери в столичные университеты, и ему пришлось поехать продолжать образование в Казань, где в 1900 он поступил на юридический факультет Казанского университета .
Революционные взгляды Рыкова стали причиной «четвёрки» за поведение в аттестате. Последнее обстоятельство закрыло перед ним двери в столичные университеты, и ему пришлось поехать продолжать образование в Казань, где в 1900 он поступил на юридический факультет Казанского университета .
В том же году 19-летний студент Рыков вошёл в состав местного комитета РСДРП (казанская социал-демократическая группа ). В Казани он руководил рабочими кружками, одновременно работая в студенческом комитете. В марте 1901 года рабочая и студенческая социал-демократические организации были разгромлены. После 9-месячного пребывания в казанской тюрьме Рыков был отправлен в Саратов под надзор полиции.
В Саратове Рыков участвовал в попытке создания общей революционной организации социал-демократов и социал-революционеров, но после оформления эсеровской партии эта организация распалась. 1 мая 1902 года Рыков участвовал в организации первомайской демонстрации в Саратове. Демонстрация была разогнана силами полиции и черносотенцев . Сам Рыков чудом избежал расправы; избитый и в крови, он убежал от преследовавших его жандармов.
Через некоторое время, в связи с казанским делом, из департамента полиции прибыл приговор о ссылке Рыкова в Архангельскую губернию. Алексей принял решение перейти на нелегальное положение.
Государственная деятельность до смерти Ленина
Рыков: «Я должен начать свою речь с того, что я не отделяю себя от тех революционеров, которые некоторых сторонников оппозиции за их антипартийные и антисоветские действия посадили в тюрьму. (Бурные, продолжительные аплодисменты. Крики „ура“. Делегаты встают). Голос. Да здравствует ленинский ЦК! Ура! (Аплодисменты) » .
На апрельском Пленуме ЦК и ЦКК 1929 года была принята резолюция, осуждающая правый уклон, лидерами которого были объявлены Рыков вместе с Н. И. Бухариным и М. П. Томским . После пленума они утратили своё политическое влияние, хотя Рыков формально продолжал оставаться членом Политбюро и председателем Совнаркома СССР. В ноябре того же года признал свои «ошибки» и заявил, что будет вести «решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого уклона» .
Один из подписавших, наряду с М. И. Калининым и А. С. Енукидзе , Постановление ЦИК и СНК от 1 февраля 1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Это решение стало основой для проведения массовых мероприятий по раскулачиванию в деревне.
Рыков - единственный из лидеров «правого уклона», оставленный в Политбюро после XVI съезда ВКП(б).
Последние годы жизни
Неоднократно за свою деятельность был раскритикован Сталиным: «Вы знаете историю с вывозом золота в Америку. Многие из вас думают, может быть, что золото было вывезено в Америку по решению Совнаркома, или ЦК, или с согласия ЦК, или с ведома ЦК. Но это неверно, товарищи. ЦК и Совнарком не имеют к этому делу никакого отношения. У нас имеется решение о том, что золото не может быть вывезено без санкции ЦК. Однако это решение было нарушено. Кто же разрешил его вывоз? Оказывается, золото было вывезено с разрешения одного из замов Рыкова с ведома и согласия Рыкова» (Сталин И.
Сочинения. - М., 1949. - Т. 12. - С. 101-102.)
Семья
Жена - Нина Семёновна Маршак (Рыкова) ( , Ростов-на-Дону - ), тётка драматурга Михаила Шатрова (Маршака), до Рыкова была замужем за Иосифом Пятницким (Тарсисом), впоследствии деятелем Коминтерна . Работала начальником управления охраны здоровья детей Наркомздрава СССР. 7 июля 1937 года арестована. Расстреляна 22 августа 1938 года. Посмертно реабилитирована в 1957 году .
Дочь - Наталья Алексеевна Перли-Рыкова (22 августа - 9 января ), в , и 1950 годах была осуждена ОСО. 18 лет провела в лагерях и ссылке, где вышла замуж за ссыльного эстонца В. Перли, умершего в 1961 г. Реабилитирована в г. Детей не было .
Нынешние дальние родственники проживают в городах Калининград и Бишкек.
Сестра Рыкова была замужем за братом Николаевского Владимиром (1899-1938).
Награды
Названы в честь Рыкова
- В честь А. И. Рыкова город Енакиево Донецкой области в 1928-1935 гг. назывался Рыково.
- 19 сентября 1921 года посёлок завода «Урал-Волга» Царицына стал Советским посёлком, а в 1925 году посёлком имени Рыкова , который стал центром существовавшего с 1930 по 1935 год Рыковского района Сталинграда.
- Прижизненно в честь Рыкова в 1928 году были переименованы четыре номерные Истоминские улицы в Москве. В 1937-1938 гг. улицы носили прежнее название - Истоминские; позже были переименованы по соседней улице Восьмого Марта в 1-4-е улицы Восьмого Марта. В настоящее время из номерных улиц сохранились лишь 1-я и 4-я.
- Семейство первых самолётов авиаконструктора А. С. Яковлева - АИР . Было названо в честь А. И. Рыкова. Первый самолёт был назван «А. И. Рыков» в благодарность за поддержку, которую самодеятельный конструктор постоянно получал от ОДВФ и его преемника Авиахима с самого начала своей работы в авиации в 1923 году. Председателем этих организаций с момента создания ОДВФ в 1923 году был А. И. Рыков - председатель Совнаркома СССР. При подготовке самолёта «А. И. Рыков» к перелёту Москва - Харьков - Севастополь - Москва на фюзеляж самолёта был нанесён бортовой номер RR-AIR (по-русски АИР). Впоследствии, когда появлялись новые конструкции А. С. Яковлева, их тоже называли АИРами, а первую машину перекрестили в АИР-1. Аббревиатура АИР использовалась как часть наименования самолётов А. С. Яковлева вплоть до АИР-18 в 1937 году, когда А. И. Рыков был репрессирован;
- Тридцатиградусную водку в народе называли «рыковкой» . На этот счет есть и другая, более красивая легенда. Рыков был одним из членов правительства, который являлся противником ограничительных мер в употреблении алкоголя, считая, что запреты лишь приводят к употреблению суррогатов. Он был сторонником культуры употребления спиртных напитков и инициатором того, чтобы хлебное (белое) вино (до 1936 года именно так в СССР назывался напиток, который позже стал называться "водка") выпускалось в более мелкой таре, в т.н. "четвертушках" (четвертинка, чекушка). Емкость чекушки равнялась 1/4 винной бутылки, которая в свою очередь составляла 0,77л. Таким образом, чекушка равнялась 193мл. Народ оценил эту инициативу Рыкова и называл чекушку "рыковка". После того как Рыков был репрессирован и назван в официозной прессе мерзавцем, называть чекушку рыковкой было уже небезопасно, народ заменил ее словом "мерзавчик". Это название еще долго, даже после того как емкость спирных напитков стала соответствовать метрической системе мер, бытовала в народе.
- Имя Рыкова в 1927-1937 гг. носила Свердловская ГЭС (1927-1964) на Малоконном полуострове.
- В честь А. И. Рыкова была названа улица в городе Семей (ранее Семипалатинск), в Казахстане.
- В его честь были названы промышленные предприятия, мельницы, заводы и т.д. в Западно-Сибирском крае (ранее Сибирском крае).
См. также
«… Колониальная политика, например, Великобритании, заключается в развитии метрополии за счёт колоний, а у нас - колоний за счёт метрополии» (Председатель СНК СССР А. И. Рыков, 1920-е годы) .Напишите отзыв о статье "Рыков, Алексей Иванович"
Примечания
Литература
- Рыков А. И. Избранные произведения. - М.: Экономика, 1990. - ISBN 5-282-00797-5
- Шелестов Д. Время Алексея Рыкова. - М.: Прогресс, 1990. - ISBN 5-01-001936-1
- Сенин А. С. А. И. Рыков. Страницы жизни.- М.: Изд-во Моск. открытого ун-та: АО «Росвузнаука», 1993. - 239 с.
Ссылки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
Отрывок, характеризующий Рыков, Алексей Иванович
Пьер с удивлением посмотрел на него, не в силах понять, чего ему было нужно.– Хотя это и было с глазу на глаз, – продолжал Анатоль, – но я не могу…
– Что ж, вам нужно удовлетворение? – насмешливо сказал Пьер.
– По крайней мере вы можете взять назад свои слова. А? Ежели вы хотите, чтоб я исполнил ваши желанья. А?
– Беру, беру назад, – проговорил Пьер и прошу вас извинить меня. Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу. – И денег, ежели вам нужно на дорогу. – Анатоль улыбнулся.
Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.
– О, подлая, бессердечная порода! – проговорил он и вышел из комнаты.
На другой день Анатоль уехал в Петербург.
Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желанья – об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна, и, как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Во время были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности; но всё таки слаба так, что нельзя было думать везти ее в деревню и послано было за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташи.
Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его шурин сделал предложение Ростовой и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть всё дело и восстановить репутацию Ростовой.
Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю.
Князь Николай Андреич знал через m lle Bourienne все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку к княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына.
Чрез несколько дней после отъезда Анатоля, Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему.
Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху (записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю m lle Вourienne) и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи.
Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что то о какой то петербургской интриге. Старый князь и другой чей то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо желая выразить свое сочувствие к его горю; но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
– Он сказал, что ожидал этого, – сказала она. – Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но всё таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть…
– Но неужели совершенно всё кончено? – сказал Пьер.
Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей, весьма изменившийся, очевидно поздоровевший, но с новой, поперечной морщиной между бровей, в штатском платье, стоял против отца и князя Мещерского и горячо спорил, делая энергические жесты. Речь шла о Сперанском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы.
– Теперь судят и обвиняют его (Сперанского) все те, которые месяц тому назад восхищались им, – говорил князь Андрей, – и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки другого; а я скажу, что ежели что нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то всё хорошее сделано им – им одним. – Он остановился, увидав Пьера. Лицо его дрогнуло и тотчас же приняло злое выражение. – И потомство отдаст ему справедливость, – договорил он, и тотчас же обратился к Пьеру.
– Ну ты как? Все толстеешь, – говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже вырезалась на его лбу. – Да, я здоров, – отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила: «здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши, о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера, и о господине Десале, которого он воспитателем для сына привез из за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Сперанском, продолжавшийся между двумя стариками.
– Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы – с горячностью и поспешностью говорил он. – Я лично не люблю и не любил Сперанского, но я люблю справедливость. – Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чуждом только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли.
Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате была разбита кровать, лежали раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он всё делал молча и очень быстро. Он приподнялся, прокашлялся. Лицо его было нахмурено и губы поджаты.
– Прости меня, ежели я тебя утруждаю… – Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея; он решительно, звонко и неприятно продолжал: – Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим шурином, или тому подобное. Правда ли это?
– И правда и не правда, – начал Пьер; но князь Андрей перебил его.
– Вот ее письма и портрет, – сказал он. Он взял связку со стола и передал Пьеру.
– Отдай это графине… ежели ты увидишь ее.
– Она очень больна, – сказал Пьер.
– Так она здесь еще? – сказал князь Андрей. – А князь Курагин? – спросил он быстро.
– Он давно уехал. Она была при смерти…
– Очень сожалею об ее болезни, – сказал князь Андрей. – Он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся.
– Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову? – сказал князь Андрей. Он фыркнул носом несколько раз.
– Он не мог жениться, потому что он был женат, – сказал Пьер.
Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца.
– А где же он теперь находится, ваш шурин, могу ли я узнать? – сказал он.
– Он уехал в Петер…. впрочем я не знаю, – сказал Пьер.
– Ну да это всё равно, – сказал князь Андрей. – Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего.
Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли ему сказать еще что нибудь или ожидая, не скажет ли чего нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел на него.
– Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге, – сказал Пьер, помните о…
– Помню, – поспешно отвечал князь Андрей, – я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.
– Разве можно это сравнивать?… – сказал Пьер. Князь Андрей перебил его. Он резко закричал:
– Да, опять просить ее руки, быть великодушным, и тому подобное?… Да, это очень благородно, но я не способен итти sur les brisees de monsieur [итти по стопам этого господина]. – Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мною никогда про эту… про всё это. Ну, прощай. Так ты передашь…
Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье.
Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из за сочувствия к брату, Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея.
За обедом речь зашла о войне, приближение которой уже становилось очевидно. Князь Андрей не умолкая говорил и спорил то с отцом, то с Десалем, швейцарцем воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного, тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.
В этот же вечер, Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через десять минут Соня вошла к Марье Дмитриевне.
– Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича, – сказала она.
– Да как же, к ней что ль его свести? Там у вас не прибрано, – сказала Марья Дмитриевна.
– Нет, она оделась и вышла в гостиную, – сказала Соня.
Марья Дмитриевна только пожала плечами.
– Когда это графиня приедет, измучила меня совсем. Ты смотри ж, не говори ей всего, – обратилась она к Пьеру. – И бранить то ее духу не хватает, так жалка, так жалка!
Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом (совсем не пристыженная, какою ее ожидал Пьер) стояла по середине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его.
Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтоб петь, но совсем с другим выражением.
– Петр Кирилыч, – начала она быстро говорить – князь Болконский был вам друг, он и есть вам друг, – поправилась она (ей казалось, что всё только было, и что теперь всё другое). – Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам…
Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее; но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку.
– Он теперь здесь, скажите ему… чтобы он прост… простил меня. – Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.
– Да… я скажу ему, – говорил Пьер, но… – Он не знал, что сказать.
Наташа видимо испугалась той мысли, которая могла притти Пьеру.
– Нет, я знаю, что всё кончено, – сказала она поспешно. – Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за всё… – Она затряслась всем телом и села на стул.
Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.
– Я скажу ему, я всё еще раз скажу ему, – сказал Пьер; – но… я бы желал знать одно…
«Что знать?» спросил взгляд Наташи.
– Я бы желал знать, любили ли вы… – Пьер не знал как назвать Анатоля и покраснел при мысли о нем, – любили ли вы этого дурного человека?
– Не называйте его дурным, – сказала Наташа. – Но я ничего – ничего не знаю… – Она опять заплакала.
И еще больше чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал как под очками его текли слезы и надеялся, что их не заметят.
– Не будем больше говорить, мой друг, – сказал Пьер.
Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос.
– Не будем говорить, мой друг, я всё скажу ему; но об одном прошу вас – считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому нибудь – не теперь, а когда у вас ясно будет в душе – вспомните обо мне. – Он взял и поцеловал ее руку. – Я счастлив буду, ежели в состоянии буду… – Пьер смутился.
– Не говорите со мной так: я не стою этого! – вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что то еще сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился сам своим словам.
– Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для вас, – сказал он ей.
– Для меня? Нет! Для меня всё пропало, – сказала она со стыдом и самоунижением.
– Все пропало? – повторил он. – Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.
Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и взглянув на Пьера вышла из комнаты.
Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава надел шубу и сел в сани.
– Теперь куда прикажете? – спросил кучер.
«Куда? спросил себя Пьер. Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или гости?» Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал; в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из за слез взглянула на него.
– Домой, – сказал Пьер, несмотря на десять градусов мороза распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди.
Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами стояло темное, звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь, огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом, и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто, с невыразимой быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место, на черном небе, и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими, мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе.
С конца 1811 го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти – миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811 го года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг, против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.
Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и т. п.
Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать к Александру: Monsieur mon frere, je consens a rendre le duche au duc d"Oldenbourg, [Государь брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу.] – и войны бы не было.
Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он и говорил это на острове Св. Елены); понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело; легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить les bons principes [хорошие принципы], а дипломатам того времени то, что все произошло оттого, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан memorandum за № 178. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам; но для нас – потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра и герцог Ольденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия; почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими.
Для нас, потомков, – не историков, не увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе, и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой, и третий, и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.
Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии, и не было бы принца Ольденбургского и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все – миллиарды причин – совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.
Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, – были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.
Отец его - крестьянин Вятской губ., Яранского уезда, слободы Кукарки, занимался ранее земледелием, затем торговлей в Саратове, наконец поехал на заработки в Мерв и там умер от холеры, оставив семью из 6 человек, частью от первого, частью от второго брака. Р. в это время еще не исполнилось 8 лет. Детство прошло в большой нужде. Мачеха могла прокормить только своих родных детей. Старшая сестра, Клавдия Ивановна, служившая в конторе Ряз.-Уральск. жел. дор. и занимавшаяся частными уроками, взяла на свое попечение мальчика и помогла ему поступить в гимназию, а затем, когда 13-летний Р. был переведен в старшие классы гимназии, он уже сам зарабатывал частными уроками.
Любимыми предметами Р. в гимназические годы были - математика, физика и естественные науки. Уже с 4 класса он выбросил за борт все божественное, перестал ходить в церковь и исповедоваться, к большому огорчению благонамеренного школьного начальства, весьма ценившего Р. за блестящие успехи.
С годами, однако, отношения юноши-революционера со школьным начальством обострились, в связи с чем он неоднократно стоял перед угрозой исключения из гимназии.
Спасали его только успехи в занятиях.
Накануне выпускных экзаменов у Рыковых был обыск, не давший результатов благодаря находчивости А. И., вовремя спрятавшего нелегальную литературу.
Но знаменитая "четверка" "за поведение" лишила Р. возможности поступить в столичные университеты, и в 1900 г. он принужден был поехать заканчивать свое образование в Казань, где и поступил на юридический факультет университета.
Годы юности Р. совпали с периодом массового подъема рабочего движения в России, которое всколыхнуло и молодежь.
Саратов в то время был "ссыльным городом", куда направляли "политических" рабочих и студентов и где особенно процветали кружки революционного направления.
В них не только читали Михайловского, Писарева, Чернышевского, но даже начали изучать и Маркса.
В нелегальных кружках Р. ознакомился с историей революционного движения в России и революционной литературой, прочел впервые сочинения Карла Маркса и главнейшие работы по рабочему вопросу и профессиональному движению Зап. Европы.
Он участвовал и в нелегальном журнале, издававшемся в Саратове.
Кружком, в котором принимал деятельное участие Р., руководил Ракитников, игравший впоследствии видную роль в партии социалистов-революционеров, а на изучение крестьянского движения натолкнуло Р. знакомство со старым народовольцем Вал. Балмашевым (с сыном его Степаном, убившим в 1902 году министра внутр. дел Сипягина, Р. был в приятельских отношениях).
Работа гимназиста Р. в революционных организациях Саратова определила и дальнейшую его судьбу.
Поступив в казанский университет, 19-летний студент Р. сразу входит в местный комитет с.-д. партии, руководит рабочими кружками, одновременно работая также и в студенческом комитете.
Такой напряженной революционной работе в Казани Р. смог посвятить только короткое время, так как в марте 1901 г. были разгромлены рабочая и студенческая организации, и Р. был отослан на 9-месячный "отдых" в казанскую тюрьму, а затем, в ожидании приговора департамента полиции, был отправлен на родину, в Саратов, под гласный надзор полиции.
Саратов к 1902 г. сделался своего рода "российским центром", где с.-д. и с.-р. велась широкая политическая агитация в рабочих массах.
Р., работавший в с.-д. комитете, сделал попытку создать объединенную революционную организацию.
Но после оформления эсеровской партии эта организация распалась по инициативе Р., который был последовательным искровцем.
Как один из организаторов первомайской демонстрации 1902 г., подвергшейся нападению черной сотни, жандармов и полиции, Р. был избит и, весь в крови, едва успел вбежать в чей-то двор, перелезть через забор и спастись от ареста.
Вскоре, в связи с казанским делом, из департамента полиции прибыл приговор о ссылке Р. в Архангельскую губернию.
Р. предпочел перейти на нелегальное положение, в котором он находился до 1917 года, перекочевывая из одного города в другой, из одной тюрьмы в другую и весьма часто меняя паспорта.
Сам он позднее в одном из писем так описывает этот период своей жизни: "Не успел я сесть на студенческую скамью, как попал в каталажку.
С тех пор прошло 12 лет, но из них я около 5? лет в этой каталажке прожил.
Кроме того, три раза путешествовал этапом в ссылку, которой тоже посвятил три года своей жизни. В краткие просветы "свободы" предо мной, как в кинематографе, мелькали села, города, люди и события, и я все время куда-то устремляюсь на извозчиках, лошадях, пароходах.
Не было квартиры, на которой я прожил бы более двух месяцев, дожил я до 30 лет и не знаю, как выправлять себе паспорт.
Понятия не имею, что такое снять где-то постоянную квартиру". Из русского бюро "Искры" в Киеве Р. получил "явку" для нелегального перехода границы и направился в Женеву.
Здесь у Р. установилась личная связь с Лениным и другими марксистами литературной и организационной группы искровцев за границей.
Через два месяца с нелегальным паспортом, адресами и явками, полученными в Женеве, Р. снова возвращается на нелегальную работу в Россию.
Его тянуло в увлекательные и страшные будни подпольной революционной работы.
По возвращении из-за границы он начал работать в Северном комитете с.-д. партии, который распространял свою деятельность, главным образом, на Ярославскую и Костромскую губернии.
Там он руководит работой местных с.-д. организаций в Ярославле, Костроме, Рыбинске, Кинешме и других.
После провала в Ярославле начались аресты, и Р. перешел на работу в с.-д. комитет в Нижнем Новгороде.
В 1904 г. ему удалось провести большую стачку на Сормовском заводе с довольно успешными результатами.
Вслед за этим он был направлен партией как выдающийся партийный организатор в Москву, так как там к тому времени произошел крупный разгром с.-д. организации.
Р. быстро восстановил организацию и вскоре из совершенно разгромленной московская с.-д. организация под руководством Р. превращается в одну из самых крупных организаций с.-д. партии.
Р. собрал вокруг с.-д. комитета большую часть разрозненных, не связанных между собою с.-д. кружков и групп, восстановил работу в рабочих районах и сам вел непосредственную работу среди рабочих Сокольнического и Лефортовского районов.
Он устанавливает тесную связь московского с.-д. комитета с литераторами-марксистами.
Группа литераторов со Скворцовым-Степановым, Покровским, Рожковым, Фриче и др. приступила тогда к изданию марксистского журнала.
Оживление рабочего движения по всей России, приведшее к событиям 9 января, выразилось в целом ряде стачек в Москве, а расстрел 9 января привел к первым баррикадам в Замоскворечье.
В марте 1905 г. Р. был избран как ответственный организатор и руководитель московского с.-д. комитета на 3-й съезд партии большевиков в Лондоне, где Р. избирается в ЦК партии.
С тех пор, с небольшим перерывом, Р. является членом ЦК сначала РСДРП(б), а потом ВКП(б). Вернувшись в Россию после Лондонского съезда, Р. стал во главе петербургского комитета, но 14 мая во время заседания весь комитет был арестован.
В Москве Р. жил под именем фельдшера Мих. Алекс. Сухорученко и руководил подготовкой к IV объединительному Стокгольмскому съезду, работая в тесном контакте с Лениным, который однажды приезжал в Москву и виделся там с Р. В середине 1906 г. Р. выезжает в Одессу для борьбы с меньшевиками и организует там большевистские ячейки.
Подвергшись обыску, он скрывается в Москве, но весьма скоро его арестовывают и высылают в Пинегу Архангельской губ. на три года. Из ссылки Р. бежал обратно в Москву и здесь снова работает в московской организации и руководит областным комитетом промышленной области.
В это время, благодаря своему личному, близкому знакомству с революционером Шмидтом, Р. принял непосредственное участие в передаче для революционной работы партии большого наследства, полученного Шмидтом после смерти его отца-фабриканта. 1 мая 1907 года Р. был предан провокаторшей Путятой, опять арестован и, впредь до выяснения "дела", просидел в Каменщиках (Таганская тюрьма) 17 месяцев.
Только 28 июня 1908 г. он был приговорен к высылке, после зачета тюремного заключения, в Самару на 2 года. Ленин вызвал Р. за границу ввиду назревшего конфликта в с.-д. партии между большевиками и меньшевиками, предлагавшими ликвидировать подпольную организацию.
За границей Р. было поручено вести переговоры со всеми партийными течениями и группами о создании единого блока против ликвидаторства.
Летом 1909 года Р. возвращается в Россию, сразу попадает под наблюдение охранки и 7 сентября подвергается аресту в Москве, где проживал под именем харьковского мещанина И. Билецкого.
Просидев 3 месяца за проживание по фальшивому паспорту, Р. высылается на 3 года в Архангельскую губ., в Усть-Цильму на реке Печоре.
Вследствие болезни полиция временно оставила Р. в Пинеге, откуда он опять бежал за границу и направился по специальному вызову Ленина в Париж, где тогда находился большевистский центр. В августе 1911 г. Р. возвратился в Россию для подготовки новой партийной конференции, но уже по дороге с вокзала в Москве Р. опять был арестован и просидел 9 месяцев в тюрьме, а оттуда опять водворен в третий раз встречающуюся на его жизненном пути Пинегу для отбытия трехлетнего срока ссылки.
Вынужденное бездействие Р. заполнял чтением, а затем участием в газетке "Архангельск" в качестве репортера. "Я все время читаю ученые книжки, журналы и массу газет, особенно газет, так как русская жизнь начала улыбаться и приходить в движение", - пишет он из Пинеги, издалека остро ощущая подъем новой волны рабочего движения в 1912 г. Но вернувшись в 1913 г. в Петербург, Р. натолкнулся на полное перерождение многих прежних партийных работников, отошедших, под влиянием реакции, от активной революционной работы и отдавшихся устройству "приличного семейного очага". "Новый образ жизни и цель личных и частных интересов, - пишет Р., - пробили брешь даже в формально большевистских головах и создали совершенно новые переживания и новую психику.
Рабочие остались чужды этой трансформации нашей интеллигенции и стихийно, по инстинкту, оказывают им оппозицию". Переехав в Москву, Р. опять руководит работой большевистской партийной организации.
Но уже в июле 1913 г. он был снова арестован и сослан на 4 года в Нарымский край, куда и был отправлен из Москвы в середине ноября этапным порядком, частью в ручных кандалах.
Несмотря на строжайший надзор, Р. в сентябре 1915 г. бежал из ссылки, сначала по Оби, затем по Иртышу, Тоболу и Туре, и пробрался таким путем в Самару.
На свободе пришлось ему быть немного, так как в октябре того же года (1915) он был задержан, пробыл в тюрьме 7 месяцев и опять отправлен в Нарымский край, где и остался до революции.
С самого начала войны Р. защищал последовательную интернационалистическую пораженческую позицию.
Он ни на минуту не поддался оборонческим настроениям и патриотической горячке, которые в первые годы войны захватили даже и часть ссыльных.
Р. руководит противовоенными кружками, в которых проводил циммервальдскую точку зрения, и благодаря огромной энергии привлекает на свою сторону многих сосланных в Нарым рабочих.
Р., совместно со своей женой Ниной Семеновной и близкими товарищами, энергично повел борьбу с различ-ными упадочными явлениями отчаяния среди ссыльных.
Стоя во главе местной большевистской фракции, он развил широкую политическую деятельность и наладил связь ссылки с российским партийным центром и с заграницей, откуда Ленин старался держать его в курсе партийной политики.
Когда пришла весть о Февральской революции, была получена телеграмма от томского общественного комитета, предлагавшая освободить 700 человек ссыльных по указанию Р. и двух других его товарищей и отправить их на родину.
Р. уехал из Нарыма с последней группой ссыльных и направился в Москву.
Партия делегировала его в моск. сов. рабочих депутатов и очень скоро он был избран в президиум совета.
Здесь он принял особенно близкое участие в разборе конфликтов фабрикантов с рабочими (арест рабочими одного из крупнейших фабрикантов - Второва, Орехово-Зуевский конфликт и т. д.). По его инициативе моск. сов. за 2-3 месяца до Октября секвестровал и национализировал Ликинскую мануфактуру и передал заведование ею рабочему правлению.
В моск. совете, в большинстве состоявшем из с.-д. меньшевиков и с.-р., Р. проводил большевистскую точку зрения и, например, организовал против воли большинства совета грандиозную стачку трамвайных служащих и однодневную всеобщую забастовку в Москве в знак протеста против августовского "государственного совещания", созванного в Москве правительством Керенского.
По его же докладу о политическом положении России пленум моск. совета отверг резолюцию меньшевиков и эсеров и принял направленную против Керенского платформу большевиков.
В Октябре Р. был одним из организаторов и руководителей вооруженного восстания и при создании Сов. нар. комиссаров вошел в его состав в качестве наркома Внудел.
Ввиду продовольственной разрухи на Р. была возложена обязанность наладить дело подвоза провианта к Москве.
В феврале 1918 года он отправился в хлебородные местности: в Тулу, Орел, Тамбов, Поволжье, Харьков, организовал продвижение застрявших хлебных эшелонов и несколько улучшил регулярное поступление провианта.
Еще в 1918 г., в период колоссальнейшей разрухи, правительство поручает Р. руководство Высшим советом народного хозяйства.
Под его руководством была произведена национализация промышленности и создана государственная монополия в распределении производимых товаров.
Наступившая гражданская война потребовала планомерного снабжения борющейся на многочисленных фронтах Красной армии. Ввиду недостатка продовольствия и обмундирования для армии и рабочих в июле 1919 года было создано специальное учреждение для координирования действий ВСНХ и хозяйственных органов и организации бесперебойного снабжения Красной армии. Р. был поставлен во главе этого дела как "чрезвычайный уполномоченный СТО по снабжению Красной армии и флота" (Чусоснабарм).
Благодаря энергии Р. из всех складов и хранилищ было извлечено все, что только можно было использовать для вооружения революции и снабжения армии. Под его личным руководством были восстановлены и снова заработали главные заводы военной промышленности.
Красная армия стала получать оружие и патроны регулярно и в достаточном количестве.
Когда военная промышленность СССР стала на ноги, под руководством Р. было приступлено к восстановлению и оздоровлению мирной промышленности.
Летом 1921 года, вследствие болезни Ленина, Р. был назначен его заместителем, временно прервав работу в ВСНХ. В 1923 г. Р. вновь руководит ВСНХ в качестве его председателя, выполняя одновременно и обязанности зам. председателя Совнаркома.
Наряду с этим Р. руководит работой многих комиссий по выработке и введению единого с.-х. налога, повышению заработной платы, трестированию промышленности, по разработке мероприятий, направленных к осуществлению монополии внешней торговли и т. д. В комиссии под председательством Р. (так называемая комиссия "по ножницам") был разработан одобренный партией проект программы экономических мероприятий по снижению цен на промтовары и по поднятию цен на хлеб и другие сельскохозяйственные товары.
На основе этой программы удалось быстро ликвидировать кризис сбыта осени 1923 года и обеспечить бурный хозяйственный подъем, начиная уже с 1924-25 гг. Когда умер Ленин, партия выдвинула кандидатуру Р. на пост председателя Совнаркома СССР и РСФСР. Он был избран 2 февраля 1924 г. постановлением ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР. С тех пор Р. руководит работой СНК Союза, а с начала 1926 г. непосредственно руководит и Советом Труда и Обороны.
На съездах и сессиях ЦИК и ВЦИК РСФСР, а также на партийных съездах и конференциях Р. выступает с руководящими докладами по общим вопросам внутренней и внешней политики правительства и партии.
Большинство речей его вышли специальными изданиями, из которых особо крупное значение приобрели: доклад на XIV партийной конференции "Деревня, НЭП и кооперация", отчет правительства на III съезде Советов СССР (вышедший с отдельным предисловием "На переломе"), характеризующие принципиальные особенности наступающего этапа развития СССР, а также доклад на XV партийной конференции "Хозяйственное положение страны и задачи партии". Эта последняя работа Р. практически намечает политику партии и правительства в деле индустриализации СССР. Подготовляется к изданию полное собрание сочинений Р. Первый том, охватывающий период 1918-1921 гг., уже издан. По партийной линии Р., будучи одним из старейших членов ЦК, а с 1919 г. и членом Политбюро ЦК, является непоколебимым и стойким защитником основ ленинизма.
В этом отношении особенно характерны его выступления на XIV партийном съезде (отдельное издание "О новой оппозиции") и на XV конференции, в которых Р. дал подробную оценку экономической программы оппозиции.
Р. посвящены две большие, помимо мелких, биографии: А. Ломова, "А. И. Рыков" (1924 г., "Моск. Раб.") и И. И. Воробьева, В. В. Миллера и А. М. Панкратовой - "А. И. Рыков, его жизнь и деятельность" (1924 г., "Кр. Новь"). [В 1931-1936 нарком связи СССР. До 1930 член Политбюро ЦК, в 1934-37 кандидат в члены ЦК партии.
Необоснованно репрессирован.
По делу "Правотроцкистского антисоветского блока" в 1938 приговорен к расстрелу.
Реабилитирован посмертно.] {Гранат} Рыков, Алексей Иванович Род. 1881, ум. 1938. Политик, революционер.
Участник русской революции 1905-07 гг. и Октябрьской революции 1917 г. После прихода к власти большевиков работал на высоких руководящих должностях: был наркомом внутренних дел (1917), председателем Высшего совета народного хозяйства (1918-21, 1923-24), заместителем председателя Совнаркома (с 1921 г.), председателем СНК СССР (1924-30) и др. Занимал высокие партийные посты (член Политбюро ЦК, 1922-1930; Оргбюро ЦК, 1920-24, и др.). Репрессирован.
Жизнь этого человека можно назвать характерным примером непростой доли профессионального революционера, который во имя своей идеи в условиях царской России множество раз подвергался арестам и ссылкам, терпел нужду и лишения, испытал гонения и вынужденную эмиграцию. Но при этом куда более трагичной его судьба оказалась в советскую эпоху, когда Алексей Иванович Рыков был объявлен врагом того самого народа, за счастье которого он воевал на баррикадах и провел годы в самых жутких тюремных камерах (рис. 1).
Узник царского режима
Он родился 13 (по новому стилю 25) февраля 1881 года в Саратове, в семье купца, переселенца из слободы Кукарка Вятской губернии Ивана Ильича Рыкова. В 1898 году Рыков стал членом РСДРП, а через год поступил на юридический факультет Казанского университета, откуда был отчислен с третьего курса в связи с его участием в студенческих волнениях. Впоследствии за принадлежность к РСДРП (б) он неоднократно арестовывался и ссылался, но затем был активным участником событий Первой русской революции 1905-1907 годов.
После своего очередного ареста в 1908 году Рыков был приговорен к ссылке в Самару под гласный надзор полиции сроком на один год. На место отбытия наказания он прибыл 12 августа 1908 года. Уже на второй после приезда Рыков подал прошение в канцелярию самарского губернатора Владимира Якунина о разрешении выехать за границу «в связи с необходимостью лечения катара горла и прогрессирующей глухоты». Однако в ответ на это письмо ссыльный получил отказ. Тогда при содействии товарищей по партии Рыков вскоре смог снять частную квартиру на улице Садовой и устроился конторщиком к одному из местных лавочников.
За время пребывания в Самаре ему в общей сложности пришлось сменить несколько мест жительства и не меньшее число контор у частных торговцев, откуда его увольняли, как правило, за недисциплинированность и за постоянные опоздания на работу. А еще в открытых недавно архивных документах указывается, что ссыльный Алексей Рыков неоднократно нарушал режим гласного надзора, не являясь вовремя в полицейский участок для отметки, за что его и подвергали административному заключению в Самарскую губернскую тюрьму на срок до 5 суток. В связи с этим ныне в Государственном архиве Самарской области хранятся материалы на административного арестанта Рыкова с его фотографиями и отпечатками пальцев (рис. 2-5).




В дальнейшем во время ссылки в Самару Рыков еще несколько раз просил у местных властей разрешения на выезд за границу для прохождения курса лечения. Ответы на его письма каждый раз приходили отрицательные, после чего настойчивый ссыльный направил такую же просьбу на имя министра внутренних дел Российской империи. К его удивлению, в феврале 1909 года это его прошение наконец было удовлетворено. В полученной из столицы казенной бумаге указывалось, что «ныне препятствий для выезда Алексея Иванова Рыкова в Швейцарию не усматривается».
Однако ссыльному после этого ответа пришлось провести в Самаре еще месяц – до того момента, пока из канцелярии самарского губернатора не пришло сообщение о том, что здесь «получено разрешение из МВД на досрочное прекращение ссылки Алексея Иванова Рыкова». Уже через два дня бывший ссыльный выехал поездом из Самары - сначала в Москву, а затем через Псков в Германию и Швейцарию.
В бегах по российским просторам
Хотя на III и IV съездах социал-демократической партии Рыков был избран членом ЦК РСДРП (б), во время очередной своей эмиграции он разорвал всякие отношения с большевиками, поскольку не согласился с Лениным по вопросу партийного единства. В итоге в 1912 году на Пражской конференции Рыкова больше не выдвигали в состав Центрального Комитета. Он вернулся в Россию, где вскоре его снова арестовали и сослали на четыре года в Сибирь, в Томскую губернию. На место отбытия наказания осужденный прибыл в начале 1913 года. Впрочем, жизнь в таежной глухомани деятельного Рыкова не прельщала, и из этой ссылки он снова бежал.
Как вскоре выяснилось, дальнейший путь революционера-нелегала отсюда опять лежал на берега Волги. В декабре 1914 года в поле зрения агентуры Самарского губернского жандармского управления попал некий гражданин, который проявлял повышенную активность в распространении антигосударственных идей, а по документам он числился крестьянином Уфимской губернии Евграфом Бычковым. Лишь после ареста подозрительного субъекта жандармам удалось установить, что под этой липовой фамилией скрывается беглый ссыльный Алексей Рыков, который пятью годами ранее уже успел не раз побывать в Самарской губернской тюрьме. В этот раз побегушник провел в здешней камере два месяца, после чего его в столыпинском вагоне отправили обратно в Сибирь, в Нарымскую ссылку, где Рыков должен был провести не только недосиженные два года, но еще и дополнительные три месяца в качестве наказания за побег.
В этот раз в европейские российские губернии Рыкову удалось вернуться уже после Февральской революции. В мае 1917 года он добрался до Москвы, где сразу же был избран в члены Президиума Моссовета. Его активная деятельность в городском парламенте не осталась незамеченной, и потому вскоре после Октябрьского переворота Рыков был назначен народным комиссаром по внутренним делам в первом советском правительстве. Однако он пробыл на этом посту всего лишь неделю (с 27 октября по 4 ноября 1917 года), после чего подал в отставку вместе со Львом Каменевым в знак протеста против отказа большевиков сформировать коалиционное правительство вместе с другими партиями.
Приговорен к высшей мере
Несмотря на свои дальнейшие политические разногласия с высшим руководством государства и партии, Рыков 3 апреля 1918 года принял пост Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР (ВСНХ РСФСР), который он занимал до мая 1921 года. Затем после образования Союза ССР вторая сессия ЦИК СССР I созыва утвердила его заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР (СНК СССР).
Уже в то время он занимал прочные позиции в партийном и советском руководстве и фактически возглавлял Совет Народных Комиссаров в отсутствие парализованного Ленина. Поэтому выглядело вполне логично, что 2 февраля 1924 года, всего через полторы недели после смерти вождя мирового пролетариата, Алексей Рыков был утвержден сессией ЦИК в должности Председателя СНК СССР. Тогда же ВЦИК РСФСР поддержал практику совмещения постов союзного и республиканского руководства и утвердил Рыкова также и Председателем СНК РСФСР.
В дальнейшем, в ходе развития его разногласий с позицией Сталина по вопросу о методах строительства социализма, Рыков сначала потерял пост главы российского правительства (май 1929 года), а затем и союзного (декабрь 1930 года). Тем самым потерпела свое окончательное поражение «правая оппозиция» в ЦК ВКП (б), созданная им совместно с Николаем Бухариным и Михаилом Томским.
После своей вынужденной отставки Рыков был назначен народным комиссаром СССР по делам почт и телеграфа (занимал этот пост с января 1932 года). Но в 1936 году для него наступили черные дни, когда в ходе суда по «делу Зиновьева–Каменева» против Рыкова выдвинули обвинения в организации им и его сторонниками антисоветского заговора. В результате в феврале 1937 года он был исключен из партии и арестован.
Бывший профессиональный революционер, видевший камеры многих централов царской России, теперь оказался в камере главной тюрьмы НКВД. По злой иронии судьбы сюда его поместила та самая власть, за победу которой в рядах коммунистической партии, плечом к плечу с Лениным и Сталиным, он сражался больше 20 лет. В подвалах Лубянки под следствием по делу о контрреволюционной деятельности Рыкову пришлось отсидеть больше года.
Третий открытый политический процесс по делу «Правотроцкистского антисоветского блока», в котором Рыков стал одним из главных фигурантов, проходил в марте 1938 года. Подсудимые обвинялись в антисоветском заговоре, в убийстве Кирова, Куйбышева и Горького, в саботаже, измене Родине и других тяжких преступлениях. Алексей Рыков в своем последнем слове заявил: «Я хочу, чтобы те, кто ещё не разоблачен и не разоружился, чтобы они немедленно и открыто это сделали… помочь правительству разоблачить и ликвидировать остатки охвостья контрреволюционной организации» (рис. 6-8).



Военная коллегия Верховного Суда СССР 13 марта приговорила 18 подсудимых к смертной казни. Через два дня на Коммунарском полигоне бывший председатель Совнаркома Алексей Рыков был расстрелян вместе с Бухариным, Ягодой, Розенгольцем, Раковским и другими осужденными.
В 1957 году в ходе широкой кампании по реабилитации жертв политических репрессий в коллегию Верховного суда СССР подавалась заявка также и в отношении Алексея Рыкова, но в тот раз она была отклонена. Лишь в 1988 году Рыков был полностью реабилитирован по решению Главной военной прокуратурой СССР. Тогда же он по специальному решению ЦК КПСС он был восстановлен в партийных рядах (рис. 9).

Сейчас мало кто знает, что в первое десятилетие советской власти одна из улиц Самары по решению горисполкома была названа именем Алексея Ивановича Рыкова. Она носила его с 15 июля 1925 года по 26 марта 1937 года. В тот день в связи с делом «Правотроцкистского антисоветского блока» улица была переименована, получив имя тогдашнего главы НКВД СССР Николая Ивановича Ежова. Однако уже вскоре, после ареста и расстрела Ежова, и это название пришлось менять. С 5 мая 1939 года улица носит имя известной советской лётчицы Полины Осипенко, и располагается она в Октябрьском районе города Самары.
Алексей Иванович Рыков (13 (25) февраля 1881, Саратов - 15 марта 1938, Москва) - советский политический и государственный деятель, народный комиссар внутренних дел РСФСР (1917), председатель СНК СССР (1924-1930) и одновременно СНК РСФСР (1924-1929).
Детство и юность
Родился в семье крестьянина, переселенца из слободы Кукарка Вятской губернии, Яранского уезда, Ивана Ильича Рыкова. Его отец занимался земледелием, потом торговлей в Саратове. В 1889 году отец Рыкова уехал на заработки в Мерв, где умер отхолеры, оставив семью из 6 человек, состоящую из детей от первого и второго брака.
Детство Рыкова прошло в нужде. Мачеха могла прокормить только своих родных детей. Старшая сестра Клавдия Ивановна Рыкова, служившая в конторе Рязанско-Уральской железной дороги и занимавшаяся частными уроками, взяла на свое попечение мальчика и помогла ему поступить в 1892 в Саратовскую 1-ю классическую гимназию. Позже, когда 13-летний Рыков был переведен в старшие классы гимназии, он уже сам зарабатывал частными уроками. Любимыми предметами Рыкова в гимназические годы были математика, физика и естественные науки.
В 4-м классе гимназии, в 15 лет Рыков перестал посещать церковь и исповедоваться, чем вызвал огорчение и упреки со стороны гимназического начальства, несмотря на это ценившего Рыкова за блестящие успехи в учебе.
Революционная деятельность
Еще в гимназии Рыков увлекся революционными идеями, в связи с чем имел неприятности с полицией. Так, накануне выпускных экзаменов в доме Рыковых был произведен обыск на предмет поиск нелегальной литературы. В годы молодости Рыкова Саратов был «ссыльным городом», местом где отбывали ссылку за политические взгляды. В городе было несколько революционных кружков, в работе которых Рыков принимал самое активное участие. Значительное влияние на Рыкова в эти годы оказал известный деятель партии социалистов-революционеров Ракитников Николай Иванович. Знакомство со старым народовольцем Валерианом Балмашёвым, подвигло Рыкова заняться изучением крестьянского движения. С сыном Балмашёва Степаном, убившим в 1902 году министра внутренних дел Сипягина, Рыков был в приятельских отношениях.
Революционные взгляды Рыкова стали причиной «четверки» за поведение в аттестате. Последнее обстоятельство закрыло перед Алексеем Ивановичем двери в столичные университеты и ему пришлось поехать продолжать образование в Казань, где в 1900 он поступает на юридический факультет Казанского университета.
В том же году 19-летний студент Рыков сразу входит в состав местного комитета РСДРП(казанская социал-демократическая группа). В Казани он руководит рабочими кружками, одновременно работая в студенческом комитете. В марте 1901 года рабочая и студенческая социал-демократические организации были разгромлены. После 9-ти месячного пребывания в казанской тюрьме Рыков был отправлен в Саратов под надзор полиции.
В Саратове Рыков участвует в попытке создания общей революционной организации социал-демократов и социал-революционеров. Но после оформления эсеровской партии эта организация распалась. 1 мая 1902 года Рыков участвует в организации первомайской демонстрации в Саратове. Демонстрация была разогнана силами полиции и черносотенцев. Сам Рыков чудом избежал расправы. Избитый и в крови, он убежал от преследовавших его жандармов.
Через некоторое время, в связи с казанским делом, из департамента полиции прибыл приговор о ссылке Рыкова в Архангельскую губернию. Алексей Иванович принимает решения перейти на нелегальное положение.
Вёл партийную работу в Саратове, Казани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге. Неоднократно арестовывался. По данным Л. Троцкого, Рыков входил в состав Бюро комитетов большинства. В 1907-1917 - кандидат в члены ЦК РСДРП(б). В 1910-1911 - в эмиграции во Франции. В августе 1911 года вернулся в Россию, был арестован в Москве и сослан в Архангельскую губернию. В 1912 году освобожден по амнистии, летом того же года вел революционную работу в Москве. В ноябре был арестован и сослан в Нарымский край, в 1915 году попытался бежать, но был задержан и возвращен к месту ссылки.
Освободился после Февральской революции 1917 года. В апреле того же года прибыл в Москву, в мае избран членом президиума и заместителем председателя Московского Совета Рабочих Депутатов. С сентября находился в Петрограде, избран в состав президиумаПетроградского Совета. В октябре был делегатом II съезда Советов, был избран кандидатом в члены ВЦИК.
Государственная деятельность до смерти Ленина
С 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1917 - нарком внутренних дел в первом советском правительстве. Пробыв в этой должности до 16 ноября (9 дней), сложил свои полномочия, перешел на работу в Моссовет.
10 ноября подписал постановление о создании милиции (эта дата до сих пор отмечается в России как День милиции) .
В августе 1917 избран членом ЦК партии. Как сторонник создания коалиционного правительства с участием всех левых сил, Рыков 4 ноября 1917 вышел из состава СНК и ЦК. 29 ноября отозвал свое заявление о выходе из ЦК. ДепутатУчредительного собрания.
В апреле 1918 - мае 1921 - председатель ВСНХ РСФСР и одновременно заместитель председателя Совнаркома (май 1921 - февраль 1923) и СТО (май 1921 - июль 1923). В 1919-1920 - чрезвычайный уполномоченный СТО по снабжению Красной армии и флота. В 1918 выступил против проведения Красного террора.
С 5 апреля 1920 по 23 мая 1924 - член Оргбюро ЦК, с 3 апреля 1922 - член Политбюро ЦК. 6 июля 1923 назначен председателем ВСНХ СССР и заместителем председателя Совнаркома и СТО СССР. С учётом того, что председатель Совнаркома В. И. Ленин был тяжело болен, в руках Рыкова сосредоточилось руководство всей деятельностью правительства.
Председатель правительства СССР
2 февраля 1924 года Рыков был назначен председателем Совнаркома СССР. Одновременно в феврале 1924 - мае 1929 - председатель Совнаркома РСФСР и с января 1926 года - председатель СТО СССР. После смерти Ленина активно поддержал Сталина в борьбе против Троцкого, а позже - против Зиновьева и Каменева.
В 1928-1929 годах выступал против свертывания НЭПа, форсирования индустриализации и коллективизации, что было объявлено «правым уклоном» в ВКП(б). На апрельском Пленуме ЦК и ЦКК 1929 года была принята резолюция, осуждающая правый уклон, лидерами которого были объявлены Рыков вместе с Н. И. Бухариным и М. П. Томским. После пленума они утратили свое политическое влияние, хотя Рыков формально продолжал оставаться членом Политбюро и председателем Совнаркома СССР. В ноябре того же года признал свои «ошибки» и заявил, что будет вести «решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого уклона».
Один из подписавших, наряду с М. И. Калининым и А. С. Енукидзе, Постановление ЦИК и СНК от 1 февраля 1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Это решение стало основой для проведения массовых мероприятий по раскулачиванию в деревне.
Рыков - единственный из лидеров «правого уклона», оставленный в Политбюро после XVI съезда ВКП(б).
Последние годы жизни
19 декабря 1930 снят с поста председателя Совнаркома СССР, а 21 декабря 1930 выведен из состава Политбюро. С 30 января 1931 - нарком почт и телеграфов СССР (17 января 1932 наркомат переименован в Наркомат связи). Михаил Смиртюков вспоминал: «когда его назначили наркомом почт и телеграфов, я слушал его речь… Говорил часа два, немного заикаясь. Всё выступление я уже не помню, но в памяти отложилось, что он главным образом говорил о своих ошибках в работе, о неправильных политических взглядах и каялся».
На XVII съезде ВКП(б) в своем выступлении сказал о Сталине: «Он как вождь и как организатор побед наших с величайшей силой показал себя в первое же время». В 1934 переведён из членов в кандидаты в члены ЦК ВКП(б).
Приговор по делу Бухарина-Рыкова-Ягоды, 1938
На пленуме в феврале 1937 исключён из партии и 27 февраля 1937 арестован. Содержался в Лубянской тюрьме. На допросах признал себя виновным. В качестве одного из главных обвиняемых привлечён к открытому процессу (Третий Московский процесс) по делу «Правотроцкистского антисоветского блока». В последнем слове заявил: «Я хочу, чтобы те, кто ещё не разоблачен и не разоружился, чтобы они немедленно и открыто это сделали… помочь правительству разоблачить и ликвидировать остатки охвостья контрреволюционной организации». 13 марта 1938 был приговорён к смертной казни и 15 марта расстрелян на Коммунарском полигоне. В 1957 подавалась заявка на реабилитацию Рыкова, но её отклонили. Рыков был полностью реабилитирован Главной Военной прокуратурой СССР в 1988. В том же году восстановлен в КПСС.
Семья
Жена - Нина Семёновна Маршак (Рыкова) (1884, Ростов-на-Дону - 1938), тётка драматурга Михаила Шатрова (Маршака), до Рыкова была замужем за Иосифом Пятницким (Тарсисом), впоследствии деятелем Коминтерна. Работала начальником управления охраны здоровья детей Наркомздрава СССР. 7 июля 1937 года арестована. Расстреляна 22 августа 1938 года. Посмертно реабилитирована в 1957 году.
Дочь - Наталья Алексеевна Перли-Рыкова (родилась 22 августа 1916), в 1939, 1946 и 1950 годах была осуждена ОСО. 18 лет провела в лагерях. Реабилитирована в 1956 г.
Нынешние потомки проживают в городах Калининград и Бишкек.
Награды
- Орден Красного Знамени
Названы в честь Рыкова
- В честь А. И. Рыкова город Енакиево Донецкой области в 1928-1935 гг. назывался Рыково.
- Прижизненно в честь Рыкова в 1928 году были переименованы четыре номерные Истоминские улицы в Москве. В 1937-1938 гг. улицы носили прежнее название - Истоминские; позже были переименованы по соседней улице Восьмого Марта в 1-4-е улицы Восьмого Марта. В настоящее время из номерных улиц сохранились лишь 1-я и 4-я.
- Семейство первых самолетов авиаконструктора А. С. Яковлева - АИР. Было названо в честь А. И. Рыкова. Первый самолет был назван "А. И. Рыков" в благодарность за поддержку, которую самодеятельный конструктор, постоянно получал от ОДВФ и его преемника Авиахима с самого начала своей работы в авиации в 1923 году. Председателем этих организаций с момента создания ОДВФ в 1923 году был А. И. Рыков - председатель Совнаркома СССР. При подготовке самолета "А. И. Рыков" к перелету Москва - Харьков - Севастополь - Москва на фюзеляж самолета был нанесен бортовой номер RR-AIR (по-русски АИР). Впоследствии, когда появлялись новые конструкции А. С. Яковлева, их тоже называли АИРами, а первую машину перекрестили в АИР-1. Аббревиатура АИР использовалась как часть наименования самолетов А. С. Яковлева вплоть до АИР-18 в 1937 году, когда А. И. Рыков был репрессирован.
- Тридцатиградусную водку в народе называли «рыковкой».
См. также
- Рыковский сельхозналог
«… Колониальная политика, например, Великобритании, заключается в развитии метрополии за счёт колоний, а у нас - колоний за счёт метрополии» (Председатель СНК СССР А. И. Рыков, 1920-е годы)
Литература
- А. И. Рыков. Избранные произведения. М.:Экономика, 1990. ISBN 5-282-00797-5
- Дмитрий Шелестов. Время Алексея Рыкова. М.:Прогресс, 1990. ISBN 5-01-001936-1
- Сенин А. С. А. И. Рыков. Страницы жизни. М.: Изд-во Моск. открытого ун-та: АО «Росвузнаука» 1993. - 239 с.
«Никто из главных большевистских деятелей не олицетворял так недвусмысленно, как Рыков, политическую и экономическую философию НЭПа и смычки»
.
Стивен КОЭН.
Прежде чем описывать деятельность Алексея Ивановича после октябрьских (1917 г.) событий, сделаю небольшое отступление для сведения.
В слободе Кукарки Яранского уезда Вятской губернии (ныне город Советск Кировской области) 13 февраля 1881 года в семье крестьян Ивана Ильича и Александры Стефановны Рыковых родился пятый ребенок - мальчик. Его назвали Алексеем.
Так сложилась судьба, что через девять лет (1890 г.) в той же слободе Кукарки у приказчика Михаила Прохоровича Скрябина родился сын и нарекли его Вячеславом. Пройдут годы, Вячеслав Скрябин станет Вячеславом Михайловичем Молотовым и спустя сорок лет после рождения Вячеслав сменит Рыкова А.И. на посту председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Кировчане поныне гордятся, что их одна слобода «подарила» Отечеству двух премьеров Союза ССР.
Ранние встречи Рыкова с Лениным дали основания последнему убедиться в том, что Алексей Иванович является «... одним из виднейших большевиков и коммунистов» (12). Такая оценка Лениным молодого Рыкова имела дальнейшие последствия в карьере Алексея Ивановича. Именно В.И. Ленин выдвигал Рыкова в первое советское правительство народным комиссаром, председателем ВСНХ (Всероссийский Совет Народного Хозяйства), затем своим заместителем в начале в СТО (Совет Труда и Обороны), затем в Совнаркоме РСФСР. Об этом ниже.
Третье Временное правительство после свержения монархии (первое было под руководством Львова Г.Е., второе - под председательством Керенского А.Ф.) избрали только 9 ноября 1917 года. В 2 ч. 30 минут Каменев Л.Б. зачитал декрет «О создании Совнаркома РСФСР», Рыков А.И. был назван в списке членов правительства вторым после Ленина - Народный Комиссар по внутренним делам.
Всего девять дней пришлось Алексею Ивановичу исполнять обязанности наркома. 17 ноября 1917 г. Рыков А.И. в числе других комиссаров подал заявление о выходе из состава правительства и из ЦК РСДРП(б). Наступил первый кризис в новой власти.
Но обо всем по порядку.
7-го ноября в 23 ч. 40 мин. открылся 2-ой съезд Советов. Не успели утвердить повестку дня работы съезда, как зал охватила неуправляемая стихия. Вопрос о власти стоял первым.
Ю.О. Мартов (Цеденбаум) попросил слово и высказал: «Мы должны создать власть, которая будет пользоваться признанием всей демократии...»
.
Военный капитан Харраш простуженным голосом прокричал: «Политические лицемеры, возглавляющие этот съезд, - говорят нам, что мы должны поставить вопрос о власти, а между тем этот вопрос уже поставлен за нашей спиной еще до открытия съезда...»
Делегат 12-ой армии с гневом высказал: «Я послан сюда только для информации... все армейские комитеты твердо уверяют, что захват власти Советами за три недели до открытия Учредительного собрания есть нож в спину армии и преступление перед народом» .
Нелицеприятные выступления и выкрики небольшевистских делегатов сыпались в адрес большевиков из-за того, что революцию готовили наряду с большевиками и эсеры, и меньшевики, и бундовцы. А большевики, не советуясь с ними, проявили торопливость: «Вот мы, большевики, захватили власть и большинством делегатов съезда эта власть узаконена» (13).
Противостояние партий продолжалось. Оппозиционные газеты клеймили большевиков позором, называли их узурпаторами и т.д. Обстановка на съезде немного утихла, когда съезд покинули меньшевики, бундовцы, офицеры-фронтовики; осталась малая часть эсеров и большевики.
Второе заседание съезда Советов хотели начать 8-го ноября в 13 часов, фактически съезд начал работать только вечером. И первый, и второй день споры о власти продолжались, но вопрос не был решен. Джон Рид (американский писатель, очевидец событий) так описал хронику тех дней: «Военно-революционный комитет 8-го ноября назначил во все министерства Временных Комиссаров» , в том числе в министерство внутренних дел и юстиции Рыкова А.И.
По версии Шелестова Д.К. дело происходило так: «Существовала вероятность немедленного провозглашения советского правительства до созыва съезда Советов. Очевидно, какая-то наметка его состава уже могла быть. Небезынтересен и листок с заметками Владимира Ильича об организации аппарата управления, сделанными скорее всего утром 8-го ноября на квартире В.Д. Бонч-Бруевича. В левом углу листка значится «назначения» - свидетельство его размышлений о создании правительства, которое он, кстати, первоначально предлагал назвать «рабоче-крестьянским правительством» .
В подтверждение своей версии Шелестов привел подстрочную сноску: «В четвертом издании собрания сочинений В.И. Ленина (т. 26, стр. 205) опубликовано факсимиле подлинного текста воззвания, написанного рукой В.И. Ленина и им же правленого. Если расшифровать правку, то ясно читается зачеркнутое: «В-Р Комитет созывает сегодня, 2 октября, в 2 часа дня Петроградский Совет, принимая таким образом меры для создания Советского правительства» (14). Именно нелегитимное назначение Военно-революционным комитетом Временных Комиссаров послужило капитану Харрашу поводом высказать гневный упрек большевикам.
Протестные выступления против большевиков продолжались. Хворосту в скандальный костер подбросил представитель ВИКЖЕЛя (Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза). Делегатов от профсоюза железнодорожников почему-то не пригласили на съезд, но один представитель от них прибыл, чтобы высказать претензии комитета съезду в ультимативной форме.
Я приведу выступление этого представителя в таком содержании, как записал его Джон Рид:
«Я прошу слово от имени сильнейшей организации в России и заявляю Вам: ВИКЖЕЛь поручил мне довести до вашего сведения решение нашего союза по вопросу об организации власти: Центральный комитет безусловно отказывается поддерживать большевиков, если они останутся во вражде со всей русской демократией. В тысяча девятьсот пятом году и в корниловские дни железнодорожные рабочие показали себя лучшими защитниками революции. Но вы не пригласили нас на съезд. Мы не признаем этого съезда законным, после ухода меньшевиков и эсеров здесь не осталось кворума. Наш союз поддерживает старый ВЦИК и заявляет, что съезд не имеет права избирать новый ВЦИК.
Власть должна быть социалистической и революционной властью, ответственной перед авторитетными органами всей революционной демократии.
Впредь до создания такой власти союз железнодорожников отказывается перевозить контрреволюционные отряды, направляемые в Петроград, в то же время воспрещает своим членам исполнять какие бы то ни было приказания, не утвержденные ВИКЖЕЛем. ВИКЖЕЛ берет в свои руки все управление российскими дорогами»
(15).
Ультиматум представителя профсоюза железнодорожников серьезно встревожил большевиков, но не Ленина. Он дал поручение Каменеву (Розенфельду) Л.Б., члену ЦК РСДРП(б) и Сокольникову Г.Я. (Бриллианту), члену МК РСДРП(б) провести переговоры с ВИКЖЕЛем, чтобы они сняли претензии к большевикам.
Заявление представителя профсоюза железнодорожников было не пустым ультиматумом. Очень быстро Исполком с участием крестьянских делегатов, эсеров, меньшевиков и др. представителей собрал конференцию по выработке вопроса о власти. Конференция работала сутками и приняла резолюцию о коалиционном правительстве, в котором было решено представить большевикам немного постов, но без Ленина и Троцкого.
15 ноября состоялось заседание ЦК РСДРП(б) по вопросу расширения базы правительства за счет других социалистических партий. Ленина на заседании не было, но он узнал о результатах переговоров и работе конференции и подготовил свою резолюцию. Заседание ЦК продолжалось. Голосовали две резолюции:
Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев (Родомыльский) Г.Е. и Ногин проголосовали за расширение базы правительства, за соглашение с ВИКЖЕЛем, но их голоса оказались в меньшинстве, голосовали по именно. Прошла ленинская резолюция: «... без измены лозунгу Советской власти нельзя отказаться от большевистского правительства, поскольку Всероссийский съезд Советов вручил власть этому правительству. Приведенные высказывания Каменева не отражали точку зрения большевистского руководства, а лишь мнения кучки капитулянтов, не веривших в победу социалистической революции» (16).
Такая резолюция ЦК привела к недопониманию позиции Ленина у ряда членов правительства и членов Центрального Комитета партии большевиков, и в знак протеста Рыков, Каменев, Милютин, Зиновьев, Ногин и др. подали заявления о выходе их из ЦК РДРП(б) и из правительства, сняв с себя полномочия Народных Комиссаров.
У Рыкова с Лениным возникла конфликтная ситуация. Алексей Иванович в числе остальных народных комиссаров, вышедших из правительства и из ЦК партии 12 декабря того же 1917 года, обратился в ЦК с повинной, но Ленин им не простил и повинную не принял.
Однако в ЦК и в правительстве вскоре ошибку поняли, отстранив профессиональных революционеров от строительства новой жизни, не приняв от них повинную. Через три месяца Рыков был снова приглашен в состав правительства и назначен членом коллегии Наркомата продовольствия. Самого острого и самого ответственного участка работы во время разрухи и голода. Рыкову поручили возглавить Московский продовольственный комитет. Запасов хлеба в Москве - на три-четыре дня, норму хлеба на человека в сутки довели до ¼ фунта - сто граммов.
Рыков, как комиссар по продовольствию г. Москвы, немедленно выехал в южные районы страны, в родную саратовщину, объехал поволжские, тамбовские, орловские, тульские поселения, но там излишков зерна не было. «Приехал сегодня в Харьков
, - сообщал Алексей Иванович в декабре, - и два состава хлеба выхлопотал для Москвы, стало немного легче. Норму выдачи хлеба в Москве повысили до 300 граммов. Москвичи знали, кому они были обязаны спасением от голодной смерти»
(17).
Ленин внимательно следил за работой Рыкова и по-прежнему ценил его. Он простил Рыкову оппозиционный поступок, даже не вспоминал. 3 апреля 1918 г. Совнарком обсудил вопрос о назначении Рыкова председателем ВСНХ на правах члена правительства, но в состав ЦК РКП(б) его не допустили, хотя ЦК давал ему превосходную характеристику.
Доктор исторических наук Шелестов Д.К. писал: «На заседании ЦК 4-го апреля первым был поставлен вопрос «О распределении сил». Он касался только руководства ВСНХ. «Выявлено, - записано в этой связи в протоколе, - что Высший Совет Народного Хозяйства не может развить широкой работы, пока во главе его не стоит достаточно сильный, энергичный человек, способный организатор. Единственным кандидатом на пост председателя ВСНХ является тов. Рыков»
(18).
Постановлено назначить тов. Рыкова председателем, добившись от москвичей согласия на оставление Рыковым его работы по продовольствию Московской области.
Поручалось т. Свердлову переговорить и с Рыковым, и с москвичами.
Постановлению ЦК предшествовала аналогичная записка Свердлова - председателя ВЦИК и скреплена подписями Ленина, Свердлова, Сталина, Троцкого и Сокольникова. ЦК партии и правительство возлагали на ВСНХ большие надежды по хозяйственному устройству России. По выражению Ленина «ВСНХ должен быть таким же боевым органом в экономике, как СНК является в политике» (19).
Апрельское 1918 г. назначение Рыкова А.И. председателем ВСНХ положило начало более, чем 12-ти летнему периоду его руководства народным хозяйством и России, и СССР. Он проявил себя не только способным державным менеджером, но и дальновидным политиком будущего строительства социализма. Рыков А.И. практически интуитивно стоял у истоков новой экономической политики (НЭП).
Придя в ВСНХ, Рыков А.И. в первоочередном порядке начал работу с подбора кадров - искал их среди царских спецов, на которых можно было положиться. К концу 1919 г. «... только в научно- техническом отделе ВСНХ работало или являлись консультантами и экспертами более 200 профессоров, 300 инженеров, почти 250 других квалифицированных специалистов» (20).
Шла национализация фабрик, заводов; начали обобществлять целые отрасли, такие, как нефтяная, сахарная, текстильная, транспортного машиностроения и др. Рыков всю свою энергию направлял на борьбу за организованность, дисциплину, повышение производительности труда, постановку четкого учета и контроля.
Легко сегодня писать о его деятельности, а каково было в те годы строительства новой жизни при одновременной ломке старых форм производства и управления, при не окончившейся гражданской войне, при хаосе и разрухе, страшном дефиците материалов и финансовых ресурсах, при не упорядоченном распределении технических средств, при галопирующей инфляции денежных знаков.
Алексей Иванович еще на зарождающемся социалистическом производстве, в труднейших условиях, считал необходимым наладить эффективное управление. «Было бы бессмысленно , - убеждал он своих сотрудников по работе, - что, организовав центр в Москве, можно управлять всей промышленностью. Нужно распределить функции, определить, кто и что решает, что может решать область, что уезд, что центр» (21). Он начал выстраивать вертикаль управленческой системы. На местах - в областях, губерниях создавались совнархозы, наделенные определенными функциями. Государственная экономика требовала, в условиях войны и разрухи, жесткой централизации и в управлении производством, и в распределении материально-денежных ресурсов. Но чрезмерная централизация мешала эффективно управлять предприятиями и организациями. Многотысячная номенклатура продукции и товаров промышленного производства требовала не только профессиональных знаний на местах, не только времени. Она требовала сбалансированности потребностей и возможностей производить, требовала тесную практическую связь центра и местных органов управления, губернских, областных Советов депутатов с совнархозами и предприятиями.
Первые итоги работы ВСНХ были рассмотрены на первом Всероссийском съезде Высшего Совета Народного Хозяйства в начале лета 1918 года. В досъездовские дни собрался Президиум ВСНХ в Кремле под руководством В.И. Ленина, обсудивший повестку работы предстоящего съезда, она включала шесть вопросов (22):
- Экономические последствия Брестского договора;
- Экономическое положение России и экономическая политика;
- О деятельности ВСНХ;
- О финансовом положении и госбюджете;
- Внешняя торговля;
- О комитете госсооружений.
Рыков А.И. открыл съезд и первое слово представил главе правительства. В.И. Ленин в коротком выступлении не только подчеркнул роль и значение Высшего Совета Народного Хозяйства, но и обозначил первоочередные перед ним задачи: «... легла теперь одна из трудных, одна из самых благородных задач. Нет никакого сомнения, что чем дальше будут двигаться завоевания Октябрьской революции, чем глубже пойдет этот переворот, который начат ею, чем прочнее будут закладываться основа завоевания социалистической революции и упрочение социалистического строя, тем больше, тем выше будет становиться роль советов народного хозяйства, которым предстоит одним только из всех государственных учреждений сохранить прочное место, которое будет тем более прочно, чем ближе мы будем к установлению социалистического порядка, чем меньше будет надобности в аппарате чисто административном, в аппарате, ведающем собственно только управлением» (23).
Нельзя сказать, что Рыков был либеральным человеком. Когда требовалась «твердая» рука, он приводил ее в действие. ВЦИК весной 1919 г. решил заслушать Рыкова «О положении в промышленности». Алексей Иванович бескомпромиссно высказался за экономическую диктатуру в стране, предложил ввести жесткую экономию материально-технических и финансовых ресурсов и крепкую дисциплину. «Мы не можем жить в данное время без принуждения. Необходимо заставить лодыря и тунеядца под страхом кары работать на рабочих и крестьян, чтобы спасти их от голода и нищеты» (24).
Рыков А.И. руководил ВСНХ РСФСР свыше 3-х лет до мая 1921 года и, по сути дела, управлял всей экономикой республики. С развитием ВСНХ, укреплением его авторитета зарождалась и централизация власти в вопросах управления предприятиями и организациями. Алексей Иванович, выступая на 8-ом съезде РКП(б), говорил: «Ясное дело, интересы нации, языка, религии, культуры и т. д. мы ни в коем случае и ни при каких условиях подавлять не станем» (25).
Национализация средств производства и централизация приобрели значительные масштабы. К 1920 г. в руках Советского государства и его хозяйственных органов, крупных и мелких предприятий промышленного производства находилось свыше 37 тысяч. В системе ВСНХ в то время насчитывалось более 70 главков, управлений и отделов - от мелких предметов до металлоемких машин. Были такие главки, как «Главгвоздь», «Главспичка» и т.п. - все они подчинялись производственному отделу, последний - Президиуму ВСНХ, которым руководил Рыков А.И. (26).
Надо было просматривать ежедневно кучу материалов (сводки, справки, заявки и т.д.) - от производства гвоздей, булавок, спичек до крупных машин и добычи углеродов, не допуская перебоя ими в возрастающих потребностях всей номенклатуры продукции и товаров в стране.
Такая ежедневная работа убедила Рыкова, что чрезмерная централизация вредит эффективному управлению всей экономикой страны. В начале 1918 г. Рыков наполнял ВСНХ разной продукцией, расширял аппарат и только через пару лет начал убеждаться, что подобная структура управленцев ведет к жесткой централизации, бюрократизации чиновников, вредит делу.
В своем выступлении на 8-ом Всероссийском съезде Советов Рыков А.И. предложил принять резолюцию съезда: «О децентрализации управления предприятиями». Он говорил: «Эта система возникла в условиях гражданской войны и растущего разрушения, и в условиях мирного строительства не может быть приемлемой, ибо покоится на такой централизации, которая исходит из недоверия к каждому нижестоящему звену. Бюрократическая иерархия несет ответственность управленца не перед нижестоящими, а только перед вышестоящими, его безразличие к первым, но полная зависимость от вторых, порождающая угодничество, стремление «выслужиться» любыми путями, любой ценой и т.п.» (27). Такая верная оценка негативных явлений бюрократического аппарата вполне годится и сегодня.
Военные действия внутри страны еще не закончились, и все время требовались дополнительные материальные и финансовые ресурсы на нужды гражданской войны.
Назрела необходимость объединения таких ресурсов в одни руки для обеспечения нужд Красной Армии. По предложению Рыкова А.И. Совнарком республики 16 августа 1918 г. постановил образовать при ВСНХ (с участием ВЦСПС) Чрезвычайную комиссию по производству предметов военного снаряжения. Комиссия просуществовала недолго, так как работала неэффективно. Надо было находить иную форму управления этим процессом. Собравшийся 3-го июля 1919 г. пленум ЦК РКП(б) постановил: «Немедленно объединить всю организацию снабжения армии. Техническое проведение поручить одному лицу, члену Реввоенсовета республики А.И. Рыкову, который получает диктаторские полномочия в области снабжения армии» (28).
Рыков получил диктаторский мандат, но не освобождался от должности председателя ВСНХ, более того, он получил еще одно высокое назначение - стал членом Реввоенсовета, осуществляющего непосредственное руководство армией и флотом, а также всеми учреждениями военно-морского ведомства. 9 июля того же года ВЦИК принял Декрет «Об изменении в организации дела снабжения Красной армии и Красного флота».
Этим же декретом Рыков А.И. был назначен на вновь учрежденный пост Чрезвычайного уполномоченного Совета рабоче-крестьянской обороны по снабжению армии и флота. (Совет рабоче-крестьянской обороны стал после реорганизации Реввоенсовета). Появилась еще одна аббревиатура - ЧУСОСНАБАРМ. Поскольку было трудно это слово произносить, аббревиатуру заменили на ЧУСО (Чрезвычайный уполномоченный Совета обороны).
В подчинении ЧУСО ВЦИК передал все органы воензага с неограниченными правами.
В сентябре 1919 г. Рыков подписал приказ об учреждении Совета военной промышленности, которому было подчинено почти 60 военных заводов. Первым руководителем Совета Алексей Иванович назначил Богданова П. А. Совет стал прародителем нынешнего военно-промышленного комплекса (29). (Петр Алексеевич в 30-х годах необоснованно репрессирован, расстрелян, посмертно реабилитирован).
Рыков мотался по военным заводам Тулы, Ижевска, Петрограда, в результате заводы в короткие сроки приступили к выпуску нужной продукции для армии и флота. Ленин отметил такую работу Рыкова лаконичной фразой: «Рыков, когда работал в ЧУСОСНАБАРМе, сумел подтянуть дело, и дело шло» (30).
Более лестную характеристику Алексею Ивановичу дал Троцкий Л.Д. - тогдашний наркомвоенмор: «Когда, не без моего участия, товарищ Рыков назначался диктатором военного снаряжения, в минуту, когда нам грозила полная гибель, когда у нас каждый патрон был на счету и мы претерпевали поражение за отсутствием патронов, товарищ Рыков прекрасно справился со своей задачей» (31).
Наряду с должностными обязанностями Рыков активно участвовал в общественно- политических мероприятиях: был делегатом 4, 5, 6, 7, 8-го Всероссийских съездов Советов, его избирали в составы ВЦИК, ВЦСПС, он был членом правления Всероссийского хозяйственного центра рабочей кооперации, руководил рядом государственных комиссий.
На 9-ом съезде РКП(б), весной 1920-го года, Алексей Иванович вновь был избран членом ЦК РКП(б) и членом Оргбюро партии*.
*) Политбюро решало текущие безотлагательные политические и экономические проблемы, определяло ближайшую перспективу жизни страны.
Оргбюро - составная часть ЦК занималось всей организационной работой партии.
Секретариат - готовил документы для рассмотрения на заседаниях Политбюро или
Оргбюро. В 1920 году аппарат секретариата насчитывал 150 человек, а через год он вырос до 600. Когда вводили должность Генерального секретаря, полагали, что он будет руководить Секретариатом, но не Политбюро и тем более не Центральным Комитетом (35).
В 1921 г. Ленин В.И. исполнял обязанности председателя Совета Народных Комиссаров, председателя Совета труда и обороны республики, руководил работой Политбюро. В связи с большой нагрузкой и его болезнью встала необходимость ввести должность заместителя председателя Совета труда и обороны (СТО). Выбор кандидатуры остановился на Рыкове, и 26 мая того же года ВЦИК назначил Алексея Ивановича заместителем Ленина в СТО с оставлением его в правительстве с правом решающего голоса (32), освободив от должностей председателя ВСНХ и ЧУСО.
В конце ноября 1921 г. Рыков по настоянию Ленина выехал в Германию на лечение и провел там время до весны следующего года, перенес две операции на сердце. На время отсутствия Рыкова ВЦИК назначил заместителем председателя Совета труда и обороны Цюрупу А.Д., освободив его от должности Наркома по продовольствию.
Если в 1921 году Ленин проводил почти все заседания СТО сам (42 из 51 заседания), то в следующем году Владимир Ильич провел только 7 заседаний СНК из 83-х и 5 заседаний СТО из 96 (33). Остальные заседания проводились в основном Рыковым А.И. и частично Цюрупой А.Д. После назначения Каменева Л.Б. первым заместителем председателей СНК и СТО (14 сентября 1922 г.). Лев Борисович практически руководил и СНК, и СТО. Когда заседания проводил Рыков, он протоколы заседаний СТО подписывал «Зам. председателя», а протоколы заседания СНК - «За председателя».
На 11-ом съезде РКП(б) (апрель 1922 года), последнем съезде, где участвовал Ленин и высказал пожелания: «Тов. Рыков должен быть членом бюро ЦК и членом ВЦИК, потому что должна быть связь, потому что без этой связи основные колеса иногда идут вхолостую» (34).
Алексей Иванович избран был членом Политбюро, минуя кандидатский стаж, оставаясь членом Оргбюро. На Всероссийском съезде Советов Рыков был избран членом Президиума ВЦИК. Так срастались функции партийных функционеров с исполнительными и законодательными органами, чтобы «Основные колеса не ходили вхолостую».
Как известно, в декабре 1922 г. собрался первый съезд Советов социалистических республик: РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской ССР, был подписан Договор об образовании Союза ССР. 6 июля 1923 г. вторая сессия ЦИК СССР утвердила постановление о создании Совета Народных Комиссаров. Здесь же был утвержден состав союзного правительства во главе с В.И. Лениным. Его заместителями от РСФСР утвердили Каменева Л.Б., Рыкова А.И. и Цюрупу А.Д. (36).
Сессия ЦИК приняла принципиальное постановление, согласно которому председатель Совнаркома СССР и его заместители назначаются ВЦИКом председателем и заместителями Совнаркома РСФСР по совместительству. 7-го июля 1923 года вторая сессия ВЦИКа 10 созыва вновь избрала правительство РСФСР, в котором по совместительству были утверждены Ленин В.И., - председатель; Каменев Л. Б., Рыков А.И. и Цюрупа А.Д. - заместителями председателя. 18 июля того же года Совнарком Союза ССР образовал союзный Совет труда и обороны во главе с Лениным, Рыков был утвержден его заместителем.
Ленин В. И. из-за болезни уже не мог работать ни в Совнаркомах, ни в Политбюро ЦК РКП(б). Эти обязанности выполнял в большей части Каменев Л.Б., в то же время он не был освобожден от должности председателя Моссовета. Рыков А.И., как заместитель Ленина, курировал 14 наркоматов и служб: финансов, внешней торговли, комиссию по внутренней торговле, Центросоюз, труда, социального обеспечения, продовольствия, военмор, иностранных дел, здравоохранения, ЦСУ, областные ЭКОСО (экономическое совещание при Совнаркоме СССР), концессионный комитет, Госплан (37). Практически весь экономический блок и социальную сферу.
В начале февраля 1924 г. (после смерти В.И. Ленина) сессия ЦИК СССР рассмотрела вопрос о составе союзного правительства. Председателем Совнаркома и председателем СТО СССР утвердила Алексея Ивановича Рыкова, а ВЦИК РСФСР в тот же день утвердил его председателем Совнаркома РСФСР по совместительству.
В первый год премьерства Рыкова (1924 г.) страну постигла засуха. Зерна собрали меньше предыдущего года на 5 с лишним миллионов тонн. Голода, как в 1921 г., не было, но в южных районах от стихии нехватка хлеба ощущалась. Рыков А. И. и созданная им правительственная комиссия выехали в те области и губернии, в которых засуха не нанесла ущерба. Были приняты меры по перевозке зерна в пострадавшие районы и, как следствие, голода удалось избежать.
Популярность нового председателя Совнаркомов СССР и РСФСР росла, и к 1926 году его рейтинг, как ныне говорят, достиг вершины и продолжал держаться на высоком уровне почти пять лет.
В 1923-24 гг. нарастала оппозиция Зиновьева и Каменева. В декабре 1925 г. собрался 14-ый съезд ВКП(б), чтобы устроить обструкцию Сталину. Открывая съезд, Рыков А.И. выразил настроение многих делегатов, заявив, что «общий интерес заключается в том, чтобы Сталина, Зиновьева, Рыкова, Каменева и всех нас запрячь в одну запряжку» и далее убежденно продолжал, «что никогда и не перед кем, ни перед Сталиным, ни перед Каменевым, ни перед кем-либо другим партия на коленях не стояла и не станет» (38). Его слова делегаты встретили аплодисментами и криками: «Правильно!» ЦК партии поручил Рыкову А.И. открывать и закрывать 14-ый съезд ВКП(б). Делегаты съезда только двух членов Политбюро ЦК - председателя правительств СССР и РСФСР (Рыкова и Сталина) встречали продолжительными аплодисментами.
Рыков, сохраняя ленинскую традицию, как председатель правительства и как член Политбюро ЦК, продолжал вести заседания высшего политического штаба и подписывал протоколы заседаний Политбюро при действующем Генеральном секретаре.
С начала февраля 1924 и до 1929 годов у Алексея Ивановича было «звездное» время. Он был председателем двух правительств, председателем СТО СССР, членом Президиума ЦИК СССР. Как председательствующий на заседаниях Политбюро или пленумов ЦК партии, Алексей Иванович имел влияние на принимаемые на заседаниях постановления. Не зря же Сталин предлагал Рыкову руководить вдвоем как «два Аякса» - щегольнул Сталин знанием героев «Илиады» (39).
Рыков А.И. имел возможность проявить твердое единоначалие и не дать развиваться культу личности Сталина. Но он был верен принципу коллективного руководства. Сохранив смолоду сдержанность, общительность и доступность к себе и людям, он этими качествами отличался и тогда, когда стоял на государственном и партийном Олимпе.
Назначение Алексея Ивановича на пост председателя двух правительств вызвало большой положительный резонанс не только в нашей стране, много было откликов из-за рубежа. Д.К. Шелестов в своей книге «Время Алексея Рыкова» привел некоторые отзывы, и я использую их в качестве характеристики Рыкова (40).
Посол Германии в СССР граф Брокдорф-Ранцау: «Избрание на этот пост именно А.И. Рыкова, человека, который до сих пор был руководителем всего народного хозяйства СССР, является для меня новым доказательством того, что признание важности экономического восстановления в интересах политического могущества пустило глубокие корни в сознание народов СССР» .
Дипломат Эстонии Бирк: «Избрание А.И. Рыкова на пост председателя СНК не явилось неожиданностью для нашего общественного мнения: обсуждая возможность замещения, освободившегося после смерти Ленина поста председателя СНК, газеты в течение последнего времени видели наибольшую возможность в замещении этого поста А.И. Рыковым».
Один из заместителей председателя ЦИК СССР от Белорусской ССР А.Г. Червяков писал в прессе, что А.И Рыков является «лучшей кандидатурой на посту рулевого высшего органа». Предстояло решить триединую задачу:
а) восстановление сельского хозяйства, установление смычки рабочего класса с крестьянством. Рыков один из первых понял «смычку» как необходимость;
б) восстановление промышленности, вернее сказать, создание социалистической индустрии. Рыков А.И. «твердой рукой проводит линию постепенного, но неуклонного зарождения отечественной промышленности и роста численности рабочего класса» и, не принимая чрезвычайных мер, он добивается успехов;
в) проведение мероприятий, связанных с национальной политикой в разнонациональном Союзе. И здесь Алексей Иванович не перегибает палку, находит взаимопонимание с народами разных национальностей. С поставленными жизнью острыми задачами Рыков А.И. уверенно и последовательно справлялся без всякой классовой борьбы и интриг, за что и заслужил авторитет руководителя высшего ранга».
К данным характеристикам хочется добавить одно примечание - о сходстве принимаемых мер и действий по отношению к крестьянству двух премьеров: царской России - Петра Аркадьевича Столыпина и Советского Союза - Алексея Ивановича Рыкова. Оба они проявляли на деле заботу о крестьянах, об улучшении их жизни, считали крестьян опорой державы и верили, что будущее благополучие страны зависит от того, как живется крестьянину.
Если первый - Петр Аркадьевич, крестьянам дал свободный выход из патриархальной сельской общины, наделил желающих выйти из общины частной собственностью на землю и направлял их по пути более прогрессивной свободной крестьянской кооперативной формы хозяйствования. И этот путь вывел Российскую империю на первые места в Европе по экспорту сельскохозяйственной продукции.
То второй - Алексей Иванович, практически повторил меры и действия первого. В новой экономической политике крестьянский вопрос он поставил как стержневой и видел в этой политике главное - смычку рабочего класса с крестьянством, признавал и призывал к партнерству, а не к антагонизму двух классов. Дал крестьянам свободно трудиться на земле, свободно распоряжаться своей продукцией после уплаты налога, свободно находить партнера, с которым можно взаимовыгодно кооперироваться по переработке сельскохозяйственного сырья, по сбыту произведенных продукции и товаров, по кредитованию, по снабжению крестьян машинами, оборудованием, материалами и другим видами деятельности. Результат такой политики и воплощение ее в жизнь - народ России, а затем и Советского Союза был накормлен, одет и обут. На крестьянских «плечах» получила развитие индустриализация страны. Из этого сопоставления действий двух правительств вытекает один простой, но убедительный вывод: такая форма хозяйствования на земле - семейные крестьянские хозяйства или фермеры при фермерской кооперации дает высокий продуктивный эффект даже при разных политических системах, в частности, при капитализме и при социализме. Это происходит тогда, когда политика не довлеет над экономикой, над здравым смыслом.
Рыков еще не знал, что Сталин задумал фракционность. Сталин взял за правило: прежде чем обсудить вопрос на Политбюро (а секретариат готовил вопросы и материалы к заседаниям), Сталин изучал этот вопрос прежде в кругу своих преданных людей (Молотов, Каганович, Калинин, Ворошилов), не допуская к этому Рыкова, Бухарина, Томского (41). Там же Сталин и его сообщники договаривались, как вести обсуждение того или иного вопроса, чтобы прошла на заседании их линия.
Борьба Сталина и его окружения с инакомыслящими продолжалась скрытно свыше полутора лет (с февраля 1928 г. до ноября 1929 г.). Первая фаза противостояния, 10 месяцев 1928 г., нарушила равновесие в высших партийном и государственном органах.
Сталин не только руководил секретариатом, но и начал набирать властную силу над Политбюро, хотя это являлось превышением его полномочий. Рыков, Бухарин, главный редактор газеты «Правда», Томский, председатель Президиума ВЦСПС, Угланов, первый секретарь МК и МГК партии, начали «прогибаться» и оказались в Политбюро в меньшинстве.
На апрельском (1929 г.) пленуме ЦК и ЦКК (Центральная контрольная комиссия) Сталин выступил с многочасовой речью «О правом уклоне в ВКП(б)», насыщенной неоправданно предвзятой критикой взглядов Бухарина, Рыкова и Томского. (Угланов уже был снят с поста секретаря МК и МГК).
Сталин дал беспощадную оценку названным товарищам, подчеркнув, что эта не простая фракционная группа, а «самая неприятная и самая мелочная из всех, имевшихся у нас в партии фракционных групп»
(42).
Полтора месяца спустя, после речи Сталина на пленуме, Рыков, выступая в Ленинграде на партийном активе города и области, в частности, говорил:
«- В чем заключается работа Политбюро? В том, чтобы мы обсуждали вопросы, спорили по ним и в результате обмена мнений выносили решение. Было бы непонятно, дико, странно, если бы этих споров и этого обсуждения не было, если бы мы все как один думали «тютелька в тютельку». При Ильиче и при его участии мы тоже спорили друг с другом, но ничего от этого, кроме хорошего, не происходило... Политбюро не было бы руководящим органом партии, если бы его членам достаточно было посмотреть друг на друга, чтобы у них получилось единомыслие по всем вопросам. Вы нас выбирали в ЦК, мы были выбраны в Политбюро - для чего? Для того, чтобы мы рассуждали, спорили и решали. Но если во всех спорах видеть уклоны, то поставьте тогда куклы или манекены.
Кто бы стал тогда за этих манекенов думать? Партия должна все решать и обсуждать, мы имеем право и обязанность обсуждать и спорить»
(43).
Началась открытая борьба с так называемым правым уклоном, хотя резкую и грубую речь генсека не публиковали в печати и считали в ЦК, что это просто дискуссия двух мнений по вопросу о середняке - крестьянине, которого хотят вовлечь в работу на благо социализма и индустриализации страны.
Развертывая борьбу против правых уклонистов, Сталин сразу нанес удар по Бухарину. Он хорошо знал, как побить «правых», хотя и опасался. Рыков возглавлял два правительства, Бухарин был один из руководителей Коминтерна - международного органа, за Томским - многомиллионный союз рабочих, он может не так понять. Сталин выбрал первой жертвой Бухарина (мягкий интеллигент), а через него стремился подорвать авторитет Рыкова с тем, чтобы последний не смог проводить государственную политику без согласия и указания генерального секретаря ЦК партии.
На этом же объединенном пленуме ЦК и ЦКК были освобождены от должности главный редактор газеты «Правда» Бухарин, от руководства ВЦСПС - Томский. Эта информация также не появилась в печати. Рыков оставался пока на прежних постах.
Сталин начал крепить партийное ядро, жестко отстаивать свои взгляды против коллективных, зарождался культ личности. В печати фамилии руководителей высшего эшелона перечисляли: Рыков, Сталин и т. д. Сталину подобное перечисление не понравилось и в 1929 г. он распорядился, чтобы его фамилию печатали впереди Рыкова.
У Алексея Ивановича не хватило политической воли подавить индивидуализм Сталина, не дать развиваться его культу личности. Ведь он по-прежнему был главой союзного правительства, членом Политбюро ЦК, вел его заседания, был членом Оргбюро ЦК и ЦИКа. Но Рыков стал соглашаться с большинством голосов в Политбюро, ЦИКе.
Сталин, напротив, стал навязывать свои взгляды и мнения членам Политбюро и членам Совнаркома, подчинил себе членов ЦК, нижестоящие партийные органы. Он установил порядок, при котором все партийные, государственные, профсоюзные, комсомольские органы, все общественно-гражданские союзы и институты должны были быть подотчетны Центральному Комитету партии, его Политбюро и Генеральному секретарю ЦК партии.
«Прогибаться» перед Сталиным Рыков начал с конца 1927 г., хотя его популярность в народе была высокой. Выступление Алексея Ивановича на 15-ом съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.) было дважды встречено аплодисментами делегатами и криками «Ура!». Шелестов Д.К. так описал этот момент:
«Рыков А.И. начал выступление со слов: «Товарищ Каменев окончил свою речь тем, что он не отделяет себя от тех оппозиционеров, которые сидят теперь в тюрьмах. Я должен начать свою речь с того, что я не отделяю себя от тех революционеров, ... которые посадили в тюрьму антипартийных и антисоветских лидеров (не понимающих) ... той пропасти, которая лежит между спорами в Политбюро и на улицах и открытых собраниях. Я думаю, что нельзя ручаться за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить»
(44). Делегаты долго аплодировали Рыкову. В начале речи его встречали аплодисментами как «красного премьера», популярность которого в стране была на высоком уровне. В дальнейшем у делегатов вызвало восторг заявление Рыкова, что он согласен сажать в тюрьму своих бывших товарищей по партии за их оппозицию. Делая такое заявление, Рыков навряд ли думал, что пройдет десять лет, и соратники по работе и целые коллективы рабочих предприятий так же будут клеймить его позорными ярлыками, но об этом ниже.
В апреле 1929 г. открылась 16-я партконференция, утвердившая первый пятилетний план развития народного хозяйства на 1929 - 1932 годы (он включал по времени четыре года, хотя назывался пятилетним). О директивах плана докладывал Рыков А.И. Основные тезисы доклада сводились:
а) о необходимости и возможности осуществлять социалистическое преобразование без чрезвычайных мер и социальных потрясений. Но такой тезис противоречил сталинскому кредо об обострении классовой борьбы по мере приближения социализма;
б) всемерно развивать сельское хозяйство, без которого «полнокровной индустриализации не будет» (45).
Рыков считал, что нужно в первые два года пятилетки максимально возможно вложить материально-технических и денежных средств в деревню, а затем поднимать промышленность. Последний тезис вызвал нездоровую критику среди делегатов конференции, зная гневную речь Сталина на только что прошедшем пленуме ЦК ВКП(б) перед конференцией. 18 мая 1929 г. открылась сессия ВЦИК. Калинин М.И. сообщил на ней, что «... наступило время, когда для РСФСР можно выбрать самостоятельного председателя Совнаркома, не связанного непосредственно с такой же должностью в союзном Совнаркоме» (46).
После более чем пятилетнего пребывания Рыкова у руля правительства РСФСР он перестал быть его главой. Алексей Иванович хорошо понимал, что разделение составов правительств объективно необходимо, так как объем и сложность функций управления в двух правительствах возрастали. Но именно в то время, когда не было единогласия в ЦК, он все-таки считал, что Сталин ускорил разделение правительств на союзный и республиканский, а законодательные органы сохранились совмещенными, и председателем единого ЦИКа оставался М.И. Калинин.
В мае 1929 г. собрался 5-й Всесоюзный съезд Советов Союза ССР, на котором Рыков А.И. сделал последний отчет о работе союзного правительства, но продолжал оставаться на своем посту. В июне 1930 г. Алексей Иванович выступил на 16-м съезде ВКП(б) и «признал свои взгляды и действия в 1928-1929 годах ошибочными и обязался такие ошибки изжить» (47).
Съезд Советов СССР одобрил первый пятилетний план, в котором предусматривались ускоренные темпы индустриализации и одновременно рост производительности сельского хозяйства (предполагалось за пятилетку вовлечь в колхозы 18-20% крестьянских хозяйств, а в различные виды кооперации - 85% (48). На 16-ом съезде ВКП(б) Рыкова А.И. избрали шестой и последний раз в члены Политбюро. Однако трудиться с прежней отдачей сил и энергии на высоких постах в условиях сталинской подозрительности ему становилось все сложнее. Нарушился деловой контакт с Куйбышевым В.В., председателем ВСНХ, не наладились взаимоотношения с новым наркомом земледелия Яковлевым Я.А. (настоящая фамилия Эпштейн) - они напрямую, минуя председателя правительства, стали решать вопросы со Сталиным. Газеты вышли 30 декабря 1930 г. с сенсационным сообщением, опубликовав постановление ЦИК СССР: «Удовлетворить просьбу тов. Рыкова А.И. и освободить его от обязанностей председателя СНК и СТО СССР» . Тогда же его приемником был назначен Молотов Вячеслав Михайлович (49).
Около семи лет возглавлял Алексей Иванович союзное правительство, на годы которых пришлись взлет и падение экономики, сытая жизнь народа граничила с голодом и нуждой, по его воле крестьяне, как производители продукции, вписывались при НЭП в единый народнохозяйственный механизм, но и не без его участия Политбюро, а затем правительство принимали карательные меры к крестьянам в 1928-1929 годах.
Звездное время Алексея Ивановича - это проведение новой экономической политики, во главе которой, по выражению Василия Гроссмана, «стоял наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела волоокий Рыков» (50).
При Рыкове была проведена денежная реформа, в результате которой советский червонец стал устойчивой конвертируемой валютой, имевшей признание за рубежом.
Через три месяца после освобождения от занимаемых должностей, 30 марта 1931 г., Рыков был назначен народным комиссаром почт и телеграфов. Ему исполнилось 50 лет. Он не ушел от государственных дел. С присущей ему деловой энергией взялся за новую работу. В 1932 г. наркомат почт и телеграфов переименовали в наркомат связи.
В новой должности Алексей Иванович начал борьбу с бюрократизмом в своем наркомате. Вообще-то он хорошо знал «прелести» чиновничьего бюрократизма и централизацию управления экономикой страны. Первым делом он изменил структуру управления связью, сократил излишний штат аппарата.
Окраины страны нуждались в электрифицированной связи и радиофикации. Нужно было ускоренно готовить кадры связистов, а для этого, в свою очередь, потребовалась организация строительства учебных заведений, подбор и подготовка преподавательского состава. В трудных условиях нехватки материально-технических средств и финансов Рыкову удалось в короткие сроки преодолеть проблемы и построить невиданные по тем годам масштабы - 9 тысяч километров воздушно-столбовой магистрали для телефонно-телеграфной связи Москва - Хабаровск (51).
В 1936 году он последний раз проехал на Дальний Восток с инспекторской проверкой. В том же году его освободили от должности наркома связи, но квартиру ему дали в Доме правительства.
Семья Рыковых, освободив место жительства в Кремле, переехала в выделенную ей квартиру. В начале Алексей Иванович бодрился, надеялся, что ему поручат какой-либо участок работы («ведь я кандидат в члены ЦК ВКП(б)») - (к этому времени ему партийный статус понизили с члена Политбюро до члена ЦК вскоре после постановления ЦИКа об освобождении его от обязанностей председателя СНК и СТО СССР).
Но газетная травля набирала силу, и надежда на получение статусных обязанностей с каждым днем угасала.
Шел 1936 год - год интенсивного прессинга на «правоуклонистов». Томский М.П., с 1932 г. возглавлявший книжно-журнальное издательство (ОГИЗ), не вытерпев нападок, застрелился. Рыков, узнав эту новость, в сердцах сказал: «Дурак. Он положил и на нас пятно. Мы потребовали, чтобы он до конца боролся с ложью, доказывал свою невиновность» (52).
Из воспоминаний дочери Рыкова Наталии Алексеевны: отец из квартиры никуда не выходил. Ему домой приносили бумаги, среди них Наталия увидела бумагу, написанную бывшей его секретаршей Екатериной Артеменко - показания против отца. «Тетя Катя», как ее называли в семье Рыковых, знала Алексея Ивановича с юности.
Это был компрометирующий документ близкого человека.
Рыкову поступали на квартиру и протоколы допросов других «правоуклонистов», чтобы морально сломать человека. Рыков не случайно, как вспоминает Наталия, «замкнулся в себе, был молчалив, почти не думал. Однажды я услышала, как он сказал растянуто, полушепотом: неужели Николай действительно с ними связался? Я поняла, что Николай - это Н.И. Бухарин, а «они» - те, чей процесс недавно прошел» (53).
«Правда» в своей передовице 28 октября 1936 г. сообщила небылицу, будто бы Рыков - меньшевистский прихвостень, стремившийся к тому, чтобы уговорить Ленина явиться летом 1917 г. на суд правительства Керенского. Рыков направил личное письмо Сталину с протестом такого обвинения. НКВД накапливал выдуманные, компрометирующие Бухарина и Рыкова материалы.
Стоило Рыкову попасть в опалу к Сталину, как многие его сподвижники по партии и правительству стали обходить Алексея Ивановича стороной, как прокаженного. Один Серго Орджоникидзе не признавал в Рыкове оппозиционера и отступника от ленинских традиций. В день празднования юбилея К. Е. Ворошилова (ему исполнилось 55 лет) все руководство собралось в Большом театре, расположилось в первом ряду. Чета Рыковых разместилась позади рядов на пять. Все проходили мимо них и никто, кроме Георгия Константиновича, не замечал и не здоровался с Рыковыми, как будто эти люди незнакомые. Серго же, не доходя до первого ряда, увидел Рыковых - остановился, поздоровался, справился, как это обычно бывает, о здоровье, не обращая внимания на то, что с первого ряда смотрят за ними.
А 18 февраля 1937 г. газеты сообщили о скоропостижной смерти Серго Орджоникидзе.
По версии известного писателя-романиста Ю.С. Семенова, Георгия Константиновича убили, а не сам он застрелился. «... Те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе, подписали себе смертный приговор, составив акт о том, что в маузере было шесть патронов, а пороховой гари в стволе не было» (наган системы «Маузер» был семизарядный). Этих дзержинцев расстреляли через неделю, а наркомздрав Каминский, который подписывал официальный бюллетень о болезни Серго, был расстрелян, как и все, кто знал трагедию или слышал о ней. Говорили, что это Сталин поручил начальнику охраны Ежова убить Серго. И Серго был застрелен на квартире». Вдове Орджоникидзе передали адресованное письмо с соболезнованиями и подписями руководителей партии и правительства, «... но среди подписей не было подписи Сталина» (54).
После утверждения Конституции СССР на съезде Советов СССР (5 декабря 1936 г.) начал работать пленум ЦК ВКП(б), обсудивший вопрос: «Об антисоветских, троцкистских и правых организациях». С докладом выступил Ежов, нарком внутренних дел. Докладчик полагал, что его органы «выбили» из арестованных нужные признания и можно «опускать секиру» на Бухарина и Рыкова. Последние ежедневно приезжали в ЦК на заседания пленума и вынуждены были выслушивать безумные обвинения. «Ежов успел за четыре месяца работы положить на служебный стол Сталина 60 протоколов допросов обвиняемых в правом уклоне» .
Копии этих протоколов доставлялись на квартиры Бухарина и Рыкова. Но оба они пытались доказать членам ЦК партии несостоятельность их обвинений. Рыков заявил: «Я утверждаю, что все обвинения против меня с начала и до конца ложь» . Сталин предложил на заседании пленума ЦК: «Считаю вопрос о Рыкове и Бухарине незаконченным. Продолжить проверку и отложить дело решением до последующего пленума» (55).
Накануне рокового пленума (23 февраля 1937 г.) Рыкова вызвали на очную ставку с арестованными годом ранее бывшими сотрудниками, соратниками и верными помощниками по Совнаркому - Шмидтом В.В., Родиным С.Н. и Нестеровым Б.П. (муж ранее упомянутой Екатерины Артеменко - «тети Кати»). Все трое были уже обработаны следователями Лубянки и на очной ставке давали насквозь ложные, придуманные палачами Ежова показания против Рыкова А.И. Для Алексея Ивановича такие показания были за гранью безумия, от которых он окончательно был морально раздавлен.
На квартиру Рыковых с копиями протоколов допросов принесли и письмо Бухарина Н.И., написанное Сталину, в котором Николай Иванович опровергал каждое обвинение. «Иосиф, не верь тому, что я говорю на допросах. Я ни в чем не виноват, меня оклеветали» (56).
Нина Семеновна - жена Алексея Ивановича, как вспоминает Наталия Алексеевна, с укоризной сказала мужу, прочитав письмо Бухарина. «Вот я тебе говорила, что нам нужно сделать то же самое» . Отец повернул к ней только голову и ответил: «Неужели ты еще не понимаешь, что это никому не нужно, что это ничего не даст» (57). И он оказался прав. Никакие письма, просьбы, повинность - не помогли. Его ждала безнадежная тоска в лубянском каземате одиннадцать месяцев, до кончины своей жизни.
Литература:
12. Ленин В.И. Полн. собр. соч.,
т. 41, с. 417.
13. Рид Джон. Десять дней, которые потрясли мир. Петрозаводск, «Карлия», с. 94- 96.
14. Шелестов Д.К. Указанное произведение (сноска), с. 119.
15. Рид Джон. Указанное произведение,
с. 137,138.
16. Гиленсон Б. Примечания к упомянутой книге Джона Рида, прим.
199, с. 380, 381.
17. Шелестов Д.К. Указанное произведение, с. 126, 127.
18. Там же, с. 128.
19. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35 с. 134. 20. Шелестов Д.К. Указанное произведение, с. 134, 135.
21. Там же, с. 138.
22. Там же, с. 139.
23. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т 35, с 47. 24. Шелестов Д.К. Указанное произведение, с. 143.
25. Там же, с. 136.
26. Там же, с. 145.
27. Там же, с. 161, 162.
28. Там же, с. 150.
29. Там же, с. 152.
30. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 114.
31. Шелестов Д.К. Время Алексея Рыкова. М. «Прогресс», 1990, с. 160.
32. Там же, с. 187.
33. Там же (сноска), с. 187
34. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 115. 35. Шелестов Д.К. Указанное произведение, с. 201.
36. Там же, с. 201.
37. Там же, примечание 93, с. 328.
38. Там же, с. 217.
39. Там же, с. 271.
40. Там же, с. 222-224.
41. Там же (сноска) с. 268.
42. Там же, с. 271.
43. Там же, с. 262.
44. Там же, с. 245, 246.
45. Там же, с. 258.
46. Там же, с. 273.
47. Там же, с. 275.
48. Там же, с 274.
49. Там же, с 276.
50. Там же, с. 277.
51. Там же, с. 279.
52. Там же, с. 285. 53 Там же, с. 287.
54. Семенов Ю.С. Ненаписанные романы. М. «ДЭМ», 1987, с. 26. Шелестов Д.К.
Указанное произведение, с. 295.
56. Там же, с. 282.
57. Там же, с. 288.

 Белое движение
Белое движение